Некоторые проблемы изучения романа 'Что делать' - [2]
Любопытна реакция консервативно настроенных читателей, разобравшихся в смысле романа. Так, А. А. Фет писал в воспоминаниях: "Мы с Катковым не могли прийти в себя от недоумения и не знали только, чему удивляться более: циничной ли нелепости всего романа или явному сообщничеству существующей цензуры". {А. Фет. Мои воспоминания. 1848-1889. Ч. 1. М., 1890, стр. 429. 4 декабря 1872 г. И. А. Гончаров писал А. Ф. Писемскому, что роман "Что делать?" "проскочил в печать под эгидой той же узко чиновничьей и осторожной цензуры" (Полн. собр. соч. в восьми томах. Т. VIII. М., 1955, стр. 447).}
Возможно, что цензор даже рад был не производить никаких изъятий, - так мог поступить либерально настроенный В. Н. Бекетов, находившийся от Некрасова в некоторой материальной зависимости. {А. Я. Панаева (Головачева). Воспоминания. М., 1972, стр. 181.}
Гроза разразилась несколько позже, когда роман был уже полностью напечатан: отзыв того же Пржецлавского от 24 апреля и особенно второй - от 15 мая 1863 г. - ясно это подтверждает. Если в первом отзыве сказано, что "содержание романа вообще не предосудительно...", для того, чтобы найти ключ, "нужно напряженное внимание в читателе и способность соображения частностей между собою. Едва ли много в массе читающих найдется таких", что окончательное решение о достоинстве романа нужно отложить до выхода последней части, то во втором отзыве тон разительно другой: роман назван аморальным, отрицающим христианскую идею брака и проповедующим вместо нее "чистый разврат", разрушающим идею семьи, основы гражданственности и т. д. Сочинение это, сказано в заключение, "в высокой степени вредно и опасно". {Каторга и ссылка, 1928, Э 7 (44), стр. 43-50. - В литературе о Чернышевском обычно забывается, что Пржецлавский не только написал официальный отзыв, но и выступил против романа в качестве критика-журналиста. Под псевдонимом "Ципринус" он напечатал в "Голосе" (1863, 4 июля, Э 169, стр. 659-660) обширную статью: "Промах в учении новых людей. (По поводу романа "Что делать?")". На эту статью последовал ответ П. А. Бибикова: "Ревность животных. По поводу неслыханного поступка Веры Павловны Лопуховой" (П. А. Бибиков. Критические этюды. 1859-1865. СПб., 1865, стр. 153-189). Против Бибикова было возбуждено судебное преследование по обвинению в порицании "начал брачного союза". Особое присутствие С.-Петербургской уголовной палаты приговорило его к аресту на гауптвахте на семь дней (Журнал Министерства юстиции, 1866, Э 1, стр. 205-207).}
Этот отзыв определил судьбу Бекетова. 21 июня 1863 г. он известил Некрасова, что ему "ведено подать в отставку, что уже учинено в прошлую субботу", т. е. вскоре после второго отзыва Пржецлавского. {Литературное наследство, т. 51-52. М., 1949, стр. 110. - Прошение В. Н. Бекетова об отставке "по болезни" датировано 14 июня 1863 г., но до 22 июня он продолжал бывать на заседаниях С.-Петербургского цензурного комитета. В формулярном списке подлинная причина увольнения не указана, его оклад (1500 р.) был обращен в пенсию и единовременно было выдано пособие - 500 р. (у Бекетова в это время было одиннадцать человек детей и позднее родился двенадцатый: ЦГИА, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 61, л. 81, 90 об., 108 и др., и ф. 777, он. 27, ед. хр. 52, журнал от 22 июня 1863 г.; см. "Справку главного управления по делам печати о сочинениях Чернышевского, составленную для министра внутренних дел" не позднее 20 июля 1866 г.: Шестидесятые годы..., стр. 301 и 431; Литературное наследство, т. 51-52, стр. НО). Об увольнении Бекетова было объявлено в официальной "Северной почте" (1863, 24 июля, Э 163, стр. 658). Слух о том, что роман был прочитан министром внутренних дел П. А. Валуевым и будто бы он способствовал его допуску в печать, малоправдоподобен (об этом пишет в цитированной выше статье Н. В. Рейнгардт). Во всяком случае, в недавно изданном подробном "Дневнике" П. А. Валуева (т. 1-2, М., 1961) это обстоятельство никак не отражено. Версию о Валуеве поддерживал в свое время В. Е. Евгеньев-Максимов (Роман "Что делать?" в "Современнике". - В кн.: Н. Г. Чернышевский (1889-1939). Труды научной сессии к пятидесятилетию со дня смерти. Изд. ЛГУ, 1941, стр. 229-230).}
Если бы Бекетов мог доказать, что он не пропускал в печать те или иные места романа, что он своевременно "сигнализировал" о вредном его направлении, - не было бы и оснований для столь суровой меры, как увольнение. Ссылка же на визу крепостного и жандармского начальства легко была дезавуирована: Бекетову бы объяснили, что эти визы не имели в виду цензурной стороны текста. Но наученное горьким опытом III Отделение не разрешило к печати следующее произведение Чернышевского "Повести в повести", на много лет похороненное в жандармских архивах. {Е. Н. Пыпина. Письмо 23 марта 1864 г. родителям в Саратов. - В кн.: Николай Гаврилович Чернышевский. 1828-1928. Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928, стр. 314.}
В. Е. Евгеньев-Максимов совершенно справедливо полагает, что пропустить роман на свой страх и риск Бекетов, "разумеется, никогда не решился бы". Возможно, однако, что консультации с председателем С.-Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ имели место, но не отражены в документах. Обдумав визу крепостного начальства, они могли разрешить роман к печати. Но едва ли рядовой цензор, каким был В. Н. Бекетов, мог самостоятельно, нарушая служебную иерархию, дойти по этому вопросу до министра внутренних дел П. А. Валуева да еще, как допускает В. Е. Евгеньев-Максимов, "советовать Валуеву" что-то касающееся судьбы романа. {В. Е. Евгеньев-Максимов. Роман "Что делать?" в "Современнике", стр. 229.}
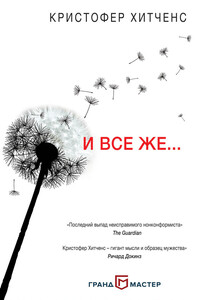
Эта книга — посмертный сборник эссе одного из самых острых публицистов современности. Гуманист, атеист и просветитель, Кристофер Хитченс до конца своих дней оставался верен идеалам прогресса и светского цивилизованного общества. Его круг интересов был поистине широк — и в этом можно убедиться, лишь просмотрев содержание книги. Но главным коньком Хитченса всегда была литература: Джордж Оруэлл, Салман Рушди, Ян Флеминг, Михаил Лермонтов — это лишь малая часть имен, чьи жизни и творчество стали предметом его статей и заметок, поражающих своей интеллектуальной утонченностью и неповторимым острым стилем. Книга Кристофера Хитченса «И все же…» обязательно найдет свое место в библиотеке истинного любителя современной интеллектуальной литературы!

Много «…рассказывают о жизни и творчестве писателя не нашего времени прижизненные издания его книг. Здесь все весьма важно: год издания, когда книга разрешена цензурой и кто цензор, кем она издана, в какой типографии напечатана, какой был тираж и т. д. Важно, как быстро разошлась книга, стала ли она редкостью или ее еще и сегодня, по прошествии многих лет, можно легко найти на книжном рынке». В библиографической повести «…делается попытка рассказать о судьбе всех отдельных книг, журналов и пьес И.
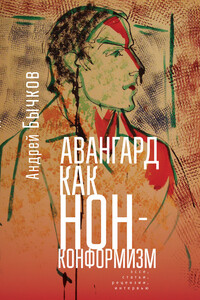
Андрей Бычков – один из ярких представителей современного русского авангарда. Автор восьми книг прозы в России и пяти книг, изданных на Западе. Лауреат и финалист нескольких литературных и кинематографических премий. Фильм Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж» по сценарию Бычкова по мнению авторитетных критиков вошел в дюжину лучших российских фильмов «нулевых». Одна из пьес Бычкова была поставлена на Бродвее. В эту небольшую подборку вошли избранные эссе автора о писателях, художниках и режиссерах, статьи о литературе и современном литературном процессе, а также некоторые из интервью.«Не так много сегодня художественных произведений (как, впрочем, и всегда), которые можно в полном смысле слова назвать свободными.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.
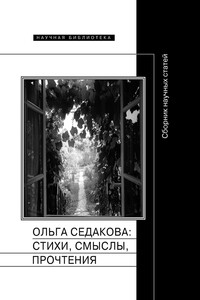
Эта книга – первый сборник исследований, целиком посвященный поэтическому творчеству Ольги Седаковой. В сборник вошли четырнадцать статей, базирующихся на различных подходах – от медленного прочтения одного стихотворения до широких тематических обзоров. Авторы из шести стран принадлежат к различным научным поколениям, представляют разные интеллектуальные традиции. Их объединяет внимание к разнообразию литературных и культурных традиций, важных для поэзии и мысли Седаковой. Сборник является этапным для изучения творчества Ольги Седаковой.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.