Неизбирательное сродство - [7]
Итак, через некоторое время таинственный пассажир перебрался в Грецию, как раз отделившуюся от Турецкой империи, где таланты и опыт инкогнито пригодились ещё больше; в подробности он снова не вдавался. Мои планы посвятить по достижении Сицилии время изучению и описанию античных памятников Великой Греции вызвали у него сдержанное сочувствие.
В это время задул сильный ветер в сторону Африки, и, как капитан ни старался держаться западного направления и ставить паруса правильным образом, ветер сбивал нас с пути. В конце концов, шторм, длившийся два дня, пригнал нас к плоскому ливийскому берегу. «Что ж, если внезапных обстоятельств невозможно перебороть, то почему бы не увидать развалин греческой Киренаики? О них известно больше по слухам, и мне выпадает случай быть их исследователем», — думал я. Уже представлял себе эти города: великую и славную Кирену, давшую название всей стране; Аполлонию, торговую гавань Кирены, павшую жертвой гнева Гефеста и Посейдона, отчасти поглощённую водами моря; ещё Арсиною, вызывающую в памяти беспутную жену киренского царя Магаса; Арсиноя пыталась сосватать дочь Беренику за некого Димитрия, который и самой Арсиное приглянулся, да был убит разгневанными жителями Киренаики по наущению Береники, мечтавшей, напротив, о замужестве с греческим царём Египта Птолемеем III Евергетом, — убит как недостойный любовник матери; а ещё, помимо Кирены, Аполлонии и Арсинои, — названную в честь египетских царей Птолемеев Птолемаиду, столицу Киренаики, разорённую вандалами и арабами и, по рассказам видевших её, погребённую под песками; и, конечно, саму Беренику — город не только добрых потомков Геспера, Евгеспериды, как его называли очень давно, но и мстительной дочери Арсинои и Магаса — да-да, Береники, вышедшей таки замуж за своего египтянина Птолемея III и потом убитой в правление их сына Птолемея IV по наущению министра Сосибия, — Береники, чьи прекрасные блестящие волосы развились на севере звёздного неба россыпью светил, воспетых Катуллом, а до него — Каллимахом. Надеюсь, я не утомил вас этим перечнем, господа. Капитан корабля, безразличный к моим восторгам перед греческой древностью и, исходя из того, что практически достижимо, счёл остановку у африканского берега пусть и не самой желанной, но единственной осуществимой. Переждать ветер в одной из местных гаваней было, по его убеждению, лучше, чем полагаться на волю стихии в открытом море. Лишь соотечественник мой был недоволен решением. Он сказал, что сходить на ливийский берег ни за что не будет. До заката мы увидели Бенгази, ту самую Беренику греков, о которой столько думал я в шторм, и вошли в гавань, где, не сходя на лишённый огней берег, стали на якорь. В пустой и сильно обмелевшей с античных времён гавани мы оказались единственным судном. Но штормовой, резкий ветер был нам больше не страшен.
При первом утреннем солнце Бенгази предстал даже не городом, а просто большим поселением на пути из греков нынешних, простых и совсем немудрящих, в греки прошлые. Никаких античных руин видно не было; их давно разобрали на новое строительство. Но и новых домов в Бенгази оказалось маловато, а имевшиеся не производили сильного впечатления. Однако, господа, и наша Старая Ладога, когда-то существенный город на пути из варяг в греки, пришла нынче в жалкое запустение, и только названия улиц, вроде Варяжской, да безымянные курганы окрест — в которых, как знать, не покоятся ли те, кто был вместе с Рюриком, или даже сам Вещий Олег — напоминают о давно уже мёртвой славе.
Было решено, что прежде, чем мы отправимся дальше, я расспрошу о том, что мне важно, местных жителей. От кочевника, пришедшего вместе с товарищем своим справиться, что мы за корабль и не везём ли на продажу какого европейского товара, а после служившего мне переводчиком в бенгазийском порту, я узнал, что вполне возможно устроить визит к варварийскому шейху, у которого могут быть, как убеждал меня переводчик, кое-какие древности; шейх этот мог бы также мне указать на местонахождение античных руин в глубине страны. «А далеко ли стоит ваш табор?» — поинтересовался я у африканца с библейским именем Джибрил. «Часах в трёх от Бенгази, если ехать на верблюдах», — отвечал мне Джибрил на беглом итальянском. Вообще способность варварийцев к языкам изумительна; те из них, кто проводит много времени на побережье, с детства помимо какого-нибудь из наречий Южной Европы и родного варварийского говорят ещё на арабском или турецком.
На следующий день, едва взошло солнце, я, переводчик и трое хорошо вооружённых моряков с нашего корабля отправились на нанятых верблюдах в указанном направлении с тем, чтобы к вечеру возвратиться в Бенгази, а товарищ моего толмача был оставлен на судне — в залог нашего безопасного возвращения. Кое-что слышав о местных обычаях, я взял с собой небольшой мешок крупы. В девять утра мы действительно увидели кочевой лагерь с палатками, скотом, ослами, лошадьми. По закону гостеприимства нам было показано хозяйство табора, которое мы похвалили, после чего кочевники отвели нас к шейху, который вышел из палатки и велел через толмача приветствовать нас, хотя весь наш дальнейший разговор меня не покидало ощущение, что шейх понимает то, что я и спутники мои говорили, без посторонней помощи и мог бы обращаться к нам напрямую, но достоинство или нежелание потерять уважение табора не позволяли ему признать, что язык чужестранцев знаком ему хорошо. Росту он был высокого, телосложения крепкого; с обветренным, загорелым, в глубоких складках лицом и с длинной, ещё не вполне седой бородой. О возрасте его можно было сказать, что шейху и сорок, и, может быть, все шестьдесят. Курчавую, но с проседью голову его венчала тёмная феска без кисти, на нём был светлый суконный плащ с откинутым на спину капюшоном, но вместо кривой сабли — на перевязи через плечо висел короткий нож, похожий на серп. Вы спросите, зачем я уделяю столько внимания его внешности: наберитесь терпения, господа. Когда шейх произносил приветствие на понятном табору наречии, у ног его зашелестела змея, каких немало встречается в ливийской пустыне; он оттолкнул её с презрением и пригласил нас жестом вовнутрь своего обиталища. Войдя, мы уселись, подвернув ноги, на широкую циновку. Старейшины табора подали раскуренную трубку. Дважды из неё затянувшись, шейх передал трубку мне, обнажив по-молодому белые зубы. Женщины — жена и дочь шейха — принесли воды, чтобы я, а затем и спутники мои омыли руки и запылённые в дороге ноги (обувь мы сняли при входе в палатку). Лиц своих варварийские женщины, в отличие от того, как это принято в других землях Османской империи, не скрывали, разве что головы с заплетёнными в косы и схваченными крупными заколками светлыми волосами были прикрыты воздушными покрывалами; недлинные юбки и совсем короткие безрукавки довершали костюм, но я больше всего обратил внимание на вшитые в пояса, на которых держались бумазейные их юбки, греческие и римские монеты; не скрылся мой интерес и от внимания шейха. В свою очередь, женщины, да и другие варварийцы, бывшие в шейховой палатке, с интересом разглядывали нас. Наше появление было целым событием. Наконец женщины принесли чаю с мятой; я отдал хозяевам пшено, шейх распорядился готовить пилав со свежей бараниной, как оказалось, заготовленной с утра к нашему приезду. Странным образом, я не удивился такой предусмотрительности и даже не подумал о том, кто и как мог предупредить шейха. В палатке остались одни мужчины, и я и спутники мои начали благодарить предводителя табора за гостеприимство. В ответ наперебой заговорили подручные шейха. Джибрил не переводил, молчал, ждал, когда своё слово скажет шейх. «Велика ли власть твоего северного владыки?» — поинтересовался шейх. «Да, она очень велика», — ответил я. «Чего же ты ищешь тогда в наших землях?» — «Учёные моей страны отправили меня исследовать то, что осталось от прошлого». — «Обтёсанные камни? Или вот эти монеты?» — улыбнулся шейх, в то время как указательные пальцы обеих рук его упёрлись в пояса жены и дочери, вернувшихся в палатку с готовым пилавом и водой для нового омовения рук. «Не только. Ещё меня интересуют мозаики и статуи». Мы отведали пилава. «Здесь ты почти ничего не найдёшь интересного. Но если ехать вдоль моря на юг, а потом на запад, то увидишь большой заброшенный город, где много колонн, высоких стен и статуй. Мои люди зовут его Лабдах; те, кто жил тут прежде, называли его Лептис Магна. Но ещё больше чудес во владеньях тунисского бея. Посреди пустыни стоит большое круглое здание в несколько этажей с ареной внутри, вы называете это цирком. Когда-то в нём показывали, как люди убивают друг друга и диких животных. А если идти от того места дальше на запад, то встретишь на пути заброшенные города, может быть, и не такие красивые как Лептис Магна, но там, среди мёртвых улиц, будут стоять полуразбитые статуи, а внутри домов ты увидишь мозаики. Человек не мог сотворить такого без помощи духов, как ты сам думаешь? Без духов воды, духов земли, духов ветра? Ты правда хочешь всё это увидеть?» — «А далеко добираться?» — «Очень далеко. Да, и передай второму русскому, что он зря отказался приехать — я радушный хозяин. Прими от меня вот этот подарок: я вижу, как тебе нравятся металлические кругляши». Казалось, шейх посмеивается над моими интересами. В палатку вошла ещё одна девушка, видимо, младшая дочь его, принесла небольшой кувшин, полный римских и греческих монет хорошей сохранности. Там было даже несколько сестерциев Гордиана, щёголя и поэта, провозглашённого императором в Африке, но так и не покинувшего её пределов, ибо правил он всего тридцать шесть дней, а погиб при подавлении мятежа у стен Карфагена. Монеты эти, вероятно, украсили бы собрание не только нашей славной Академии наук, но и любой из академий Европы. Между тем ощутимо и враз, будто по мановенью жезла, переменилась погода; это почувствовалось по тому, что вдруг стало тяжко дышать, у меня разболелась голова. «С юго-востока надвигается огненный ветер. Через несколько часов он будет здесь. Мы к самумам привыкли. Но тебе будет нелегко. Мы не хотим, чтобы подданный великого северного владыки пострадал — поезжай назад, и скорее. Как знать, может быть, мы ещё свидимся». Я снова не удивился странным словам шейха. Когда мы вышли из палатки, то вдалеке на юго-востоке под ослепительным солнцем клубилось нечто серо-коричневое, похожее на севшие на землю грозовые облака. Верблюды наши кричали совсем по-человечески. Стало невыносимо душно, и что я, что моряки мои взмокли, будто нас окатили водой. Лошади в таборе были тоже в страшном беспокойстве; ослы начали дико реветь. Следовало торопиться. Не знаю, поднялась ли температура воздуха, но у меня было ощущение, что самого воздуха становится меньше, что его выкачивают гигантским насосом, как если бы мы оказались жертвою опыта в великанской стеклянной банке. Выбора не было — надо было возвращаться раньше срока. По мере приближения к Бенгази ближе становилось и нагонявшее нас серо-коричневое закипание. «Их сметёт вместе с пылью. Где мне потом их искать?» — повторял с нескрываемым ужасом Джибрил. Головная боль не отпускала меня. Солнце светило нам прямо в лицо, но сзади надвигающееся облако песка занимало уже четверть неба. Когда достигли гавани, развьючили верблюдов и перенесли всё, что было с нами, на корабль, и когда с корабля, кажется, без особой радости, сошёл заложник-кочевник, то самум был уже на окраинах Бенгази. Сильный ветер, дувший в направлении моря, стал ещё сокрушительней. Без промедления корабль наш вышел из гавани. И тут я увидел спутника моего: глядящего восторженно и удовлетворённо на возникший над просторами Ливии ураган; впервые он улыбался, глаза расширились, морщины разгладились, кожа посветлела и потеплела, утратив прежний болезненный оттенок, одежду его раздирало ураганным ветром, особенно сюртук, тёмный шейный платок трепыхался, подобно какому-то флагу; увидел я и молнийные отблески в белках глядящего на уходящий берег пса, как мне показалось, радостно заулыбавшегося — так, как умеют улыбаться только собаки, одними углами рта. Странный русский крепко держал пса за ошейник. И в эту секунду жестокий и жалящий накат взметённого праха достиг палубы. Сначала затмился солнечный свет — накатывавшее облако охватило с обеих сторон и сверху, но ещё не упало на нас; потом всё от взметаемого под облаком и идущего по-над водой песка покраснело, и стало ещё труднее дышать. Да, господа, Геродот был прав, называя самум красным ветром. Потом потемнело и покраснело ещё больше; потом наступила полная тьма, не стало видимо даже на расстоянии вытянутой руки. Пассажир и пёс его разом исчезли, как и очертания всего, что было на палубе. Но так как мы на всех парусах выходили в море, то через краткое время взметённая от берега пыль развеялась, словно её и не было, а корабль продолжил движение с не утихавшим попутным ветром — прочь от варварийского берега. К этому времени я был в каюте.

Игорь Вишневецкий — автор шести сборников стихов, новой большой биографии Сергея Прокофьева, книг и статей по истории музыки и литературы. Экспериментальная повесть Вишневецкого «Ленинград» вызвала горячие дискуссии и была удостоена премий журнала «Новый мир» и «НОС». Герои «Ленинграда» — осколки старой русской интеллигенции в момент окончательного превращения их мира в царство «нового советского человека», время действия — первые восемь месяцев финно-немецкой блокады Ленинграда в период Великой Отечественной войны.
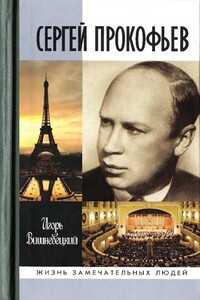
В новой биографии Сергея Сергеевича Прокофьева (1891–1953) творческий путь гениального русского композитора показан в неразрывном единстве с его эмоциональными, религиозными, политическими поисками, с попытками создать отечественный аналог вагнеровского «целостного произведения искусства», а его литературный талант, к сожалению, до сих пор недооценённый, — как интереснейшее преломление всё тех же поисков. Автор биографии поэт и историк культуры Игорь Вишневецкий представил своего героя в разных ипостасях, создав мало похожий на прежние, но вместе с тем объёмный и правдивый портрет нашего славного соотечественника в контексте трагической эпохи.
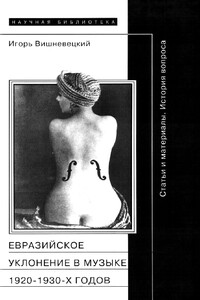
В центре исследования Игоря Вишневецкого (и сопровождающей его подборки редких, зачастую прежде не публиковавшихся материалов) — сплав музыки и политики, предложенный пятью композиторами — Владимиром Дукельским, Артуром Лурье, Игорем Маркевичем, Сергеем Прокофьевым, Игорем Стравинским, а также их коллегой и другом, музыкальным критиком и политическим публицистом Петром Сувчинским. Всех шестерых объединяло то, что в 1920–1930-е самое интересное для них происходило не в Москве и Ленинграде, а в Париже, а главное — резкая критика западного модернистического проекта (и советского его варианта) с позиций, предполагающих альтернативное понимание «западности».
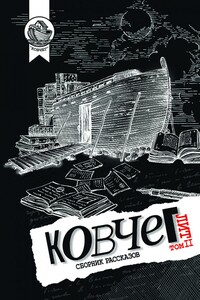
В сборник "Ковчег Лит" вошли произведения выпускников, студентов и сотрудников Литературного института имени А. М. Горького. Опыт и мастерство за одной партой с талантливой молодостью. Размеренное, классическое повествование сменяется неожиданными оборотами и рваным синтаксисом. Такой разный язык, но такой один. Наш, русский, живой. Журнал заполнен, группа набрана, список составлен. И не столь важно, на каком ты курсе, главное, что курс — верный… Авторы: В. Лебедева, О. Лисковая, Е. Мамонтов, И. Оснач, Е.

Книга «Подарок принцессе. Рождественские истории» из тех у Людмилы Петрушевской, которые были написаны в ожидании счастья. Ее примером, ее любимым писателем детства был Чарльз Диккенс, автор трогательной повести «Сверчок на печи». Вся старая Москва тогда ходила на этот мхатовский спектакль с великими актерами, чтобы в финале пролить слезы счастья. Собственно, и истории в данной книге — не будем этого скрывать — написаны с такой же целью. Так хочется радости, так хочется справедливости, награды для обыкновенных людей — и даже для небогатых и не слишком счастливых принцесс, художниц и вообще будущих невест.

Либби Миллер всегда была убежденной оптимисткой, но когда на нее свалились сразу две сокрушительные новости за день, ее вера в светлое будущее оказалась существенно подорвана. Любимый муж с сожалением заявил, что их браку скоро придет конец, а опытный врач – с еще большим сожалением, – что и жить ей, возможно, осталось не так долго. В состоянии аффекта Либби продает свой дом в Чикаго и летит в тропики, к океану, где снимает коттедж на берегу, чтобы обдумать свою жизнь и торжественно с ней попрощаться. Однако оказалось, что это только начало.

Давно забытый король даровал своей возлюбленной огромный замок, Кипсейк, и уехал, чтобы никогда не вернуться. Несмотря на чудесных бабочек, обитающих в саду, Кипсейк стал ее проклятием. Ведь королева умирала от тоски и одиночества внутри огромного каменного монстра. Она замуровала себя в старой часовне, не сумев вынести разлуки с любимым. Такую сказку Нина Парр читала в детстве. Из-за бабочек погиб ее собственный отец, знаменитый энтомолог. Она никогда не видела его до того, как он воскрес, оказавшись на пороге ее дома.

«Сто лет минус пять» отметил в 2019 году журнал «Октябрь», и под таким названием выходит номер стихов и прозы ведущих современных авторов – изысканная антология малой формы. Сколько копий сломано в спорах о том, что такое современный роман. Но вот весомый повод поломать голову над тайной современного рассказа, который на поверку оказывается перформансом, поэмой, былью, ворожбой, поступком, исповедью современности, вмещающими жизнь в объеме романа. Перед вами коллекция визитных карточек писателей, получивших широкое признание и в то же время постоянно умеющих удивить новым поворотом творчества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.