Нефтяные магнаты: кто делает мировую политику - [7]
Слушая шаха во время тех трех встреч, что я с ним имел, я заметил в его голосе и в его словах нечто похожее на желание убедить самого себя, некое тайное страдание, которое иногда прорывалось в беспокойном взгляде его глаз. Это был самодержец, возможно, даже диктатор, вероятно, плохо психологически подготовленный к этой роли.
Миллион баррелей по 1 доллару за баррель
Моя последняя встреча с ним состоялась в 1975 году, когда он проводил свой зимний отпуск в своем шале в Сен-Морице, превращенном швейцарской полицией и его собственной службой безопасности в укрепленный лагерь. Я терпеливо ожидаю около двух часов в отеле, расположенном рядом с обширной приемной, в обществе десятка людей — членов его двора и западных бизнесменов, то есть среди двух разновидностей придворных. В комнате царит полная тишина, прерываемая иногда тихими и краткими репликами. Мои встречи с несколькими государями и диктаторами навели меня на мысль о двух характерных чертах придворных: у них беспокойные глаза и они часто шушукаются.
У входа стоит охрана, и внезапное волнение возвещает о прибытии шаха. Все, кто окружает меня, подскакивают, как на пружинах, и склоняются, как автоматы, перед проходящим мимо них государем в лыжном костюме, несущим толстый анорак и черные лыжные брюки. Секунду спустя он поворачивает голову в нашу сторону и, не сказав ни единого слова, исчезает в своих апартаментах. Ожидание продолжается, и через сорок шесть минут меня вводят в его комнаты, где он встречает меня, уже одетый в пуловер с круглым воротом. Он кажется восхищенным тем вниманием, которое оказывает ему весь мир, и мне думается, что это смягчает глубокую рану, приоткрытую в признании, сделанном британскому журналисту Энтони Сэмпсону: «Мы были независимой нацией, пока Советы без предупреждения не вторглись в нашу страну[7], в то время как вы, британцы, заставили моего отца удалиться в изгнание. Затем до наших ушей дошел слух, что компания [«Бритиш петролеум»] нашла марионеток, людей, которые довольствовались тем, что щелкали каблуками по ее приказанию. Она предстала перед нашими глазами как некое чудовище, что-то вроде государства в иранском государстве». Я вижу сквозь окно крошечные хлопья снега, которые напоминают легкие пушинки, разметанные ветром. Секретарь шаха сидит на краю кресла, застывший и молчаливый, держа на коленях какое-то досье. Шаху нравится изъясняться по-французски, на языке, который он выучил во времена своей юности, проведенной в швейцарских колледжах в Женеве и в Цюрихе. Его суждения стали резкими, и он трактует события с презрением и высокомерием. В какой-то момент он говорит мне спокойным голосом:
— Через десять лет мы достигнем того же уровня развития, что и вы, англичане и немцы.
Я говорю:
— Но, ваше величество, чтобы этого достичь, потребуется много веков. Считаете ли вы десять лет реальным сроком?
Секретарь заерзал на своем кресле, а я замечаю во взгляде шаха, услышавшего вопрос, веселые искорки, до того как он отвечает безапелляционным тоном:
— Я в этом уверен.
Затем он говорит о слепоте Запада, который должен наконец поверить в то, что царствие дешевой нефти закончилось, и добавляет:
— Не забывайте, нефть — это благородный продукт, действительно благородный.
Он повторяет эти свои последние слова, затем умолкает на несколько мгновений, будто они, эти слова, навели его на размышления.
— Зачем требовать от стран-производителей, чтобы они расточали свое добро ради поддержания вашего благосостояния? Следует подумать о наших будущих поколениях и производить не более 8 миллионов баррелей в сутки.
Сказав эту последнюю фразу, он идет по следам Моссаддыка, старого лидера националистов, а «8 миллионов баррелей в сутки» — это такая информация, которая со временем для меня становится драгоценной. Иран никогда не был в состоянии превысить ежедневное производство нефти от 4 до 6 миллионов баррелей в сутки, и сказанное увеличивает сомнения относительно истинного состояния его резервов, как я это объясню в следующей главе.
Он дал мне на интервью один час, и это время истекло. По-видимому, он думает уже о чем-то другом и проявляет легкие признаки нетерпения, постукивая пальцами правой руки по краю письменного стола. Я поднимаюсь, чтобы откланяться, и все же спрашиваю его:
— Ваше величество, как вы можете утверждать, что за десять лет вы преодолеете слаборазвитость своей страны? Секретарь внезапно съеживается, и в течение краткого момента иранский правитель, похоже, колеблется между гневом и весельем. Он вновь садится, и я тоже, между тем как он наклоняется ко мне:
— Потому, месье Лоран, что я не верю ни в существование рока, ни в процессы, которые управляют человеческими жизнями и жизнью народов и влияют на них.
Он добавляет важную фразу:
— Все может измениться, все может перевернуться.
Похоже, он впервые замечает присутствие своих сотрудников и обращает к ним несколько слов, сказанных по-ирански и более спокойным тоном.
— Я приведу вам один пример, — его суровые черты внезапно смягчаются, словно он готовится рассказать мне о какой-то шутке, и в некотором роде так оно и есть. — В марте 1969 года я отправился в Соединенные Штаты, чтобы присутствовать на торжественных похоронах президента Дуайта Эйзенхауэра. В те времена нефти было много, и она была невероятно дешевой. Она стоила 1 доллар за баррель. В Белом доме я имел долгую встречу с президентом Никсоном, рядом с которым находился госсекретарь Киссинджер
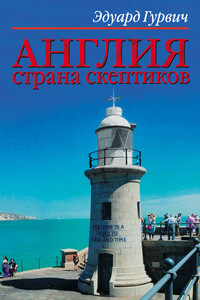
«Англия страна скептиков» – название новой книги выплыло потому, что, прожив в этой стране более тридцати лет, я наблюдал и впитывал в себя английский скептицизм. Из Москвы, откуда я эмигрировал в пятьдесят лет, я приехал романтиком. Пускай не советским, но всё-таки романтиком, со своими мифами, грёзами, надеждами, которые на Западе рассыпались в прах. Как мой романтизм сменялся скептицизмом – это перерождение прослеживается в… моих лондонских репортажах в американском русскоязычном альманахе «Панорама», где я печатался в 90-е годы. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.
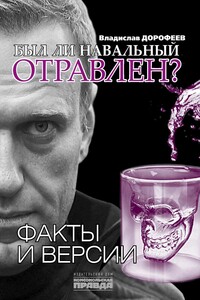
В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
