Небрежная любовь - [10]
Во втором часу ночи он, взмокший, усталый, в расстегнутой на груди рубашке упал за кулисами в низкое продавленное кресло, у которого вместо задней ножки были подложены два кирпича, и, весь перекосившись на один бок, покачиваемый мягкими волнами только что выпитого вина, ненадолго заснул. Во сне он видел тот же собор, но только теперь ему казалось, что сюда всплыл и переместился когда-то ощущаемый им ад, бесновавшийся под тихими деревянными улицами в районе Феодосьевской церкви. Начиная с входной двери, которая вся блестела и сочилась каплями оседавших на ней душных испарений, и до самого купола, которого не было видно из-за той же мутной атмосферы, весь собор был забит пьяными, возбужденными, непрерывно двигавшимися по лестницам и галереям людьми, которые в невиданном наркотическом отупении орали, ныли, визжали, дрались, жевали губы друг другу, мочились, плясали, пили — словно какое-то гадкое в своей простоте животное вползло в собор, обожралось и теперь, корчась и извиваясь, само же умирало здесь от душившей его тучности...
Очнувшись от этого болезненного кошмара, он попытался сразу встать, но весь левый бок занемел, и он чуть не упал, когда поднялся. В четыре часа утра шла обратная электричка, ложиться спать не было смысла, а пить больше он не хотел. И еще его свербила мысль, куда и, главное, с кем исчезла она, когда они кончили играть. Но все его товарищи были здесь, в соборе, они выпивали в углу зала, а ее среди них не было, и он угрюмо вспоминал, с кем из местных она танцевала. Потом, одевшись, он вышел покурить на крыльцо. Сквозь затворенную дверь звук магнитофона, игравшего в зале, почти не доносился, была пустая и холодная тишина. Внизу, у леса, где огоньками обозначились избы, пели.
Светлой расчищенной дорожкой он прошел до ворот. Они, высокие, белые, таинственно-жуткие в своей древности, были полосатыми от теней старых берез. Он глянул наверх. Над собором близко и загадочно стоял крупный крутой кокошник месяца. Четкий, жестяной, нарядный, он испускал сильный и как бы твердый невидимый свет, который, падая на крыши и улицы яркими белыми плоскостями, высекал в снегу искры цветного огня. Было в этом некое наваждение, что-то необычное подспудно складывалось вокруг и осторожно, неуверенно трогало душу. Он постоял, поежился, прислушиваясь к себе, представил удаленность и заброшенность уголка земли, где сейчас находился, и какая-то покаянная сладкая печаль пронзила вдруг его; печаль по тем временам, когда его не было, а здесь, в этом большом краю, где ему уготовано было родиться, уже шла неизвестная ему жизнь — грешная и праведная, жестокая и милосердная, хитро-сложная и застенчиво-простая, и в ней, в той далекой жизни, начало которой терялось во тьме, а на вершине, на самом сегодняшнем острие которой стоял сейчас он, сталкивались и боролись страсти, дули ветры истории, лились то хлебные дожди, то кровь и слезы, земля засевалась то зерном, то костьми и пеплом, и за весь этот неохватно длинный путь множества поколений он был сегодня ответчиком перед вечным, бесстрастно-мудрым небом. Но мог ли он что-нибудь ответить? Что знал он про землю, которая его родила? Видел ли он ее? Понимал ли? Содрогнулась ли хоть раз его душа в радости, гневе или страдании за то, что было или будет на этой земле? И коснулось ли хотя бы однажды его сердца трепетное крыло настоящей, негордой и незлой любви к этим малозаметным пологим горам, никогда не ведавшим о грозной славе Гималаев и Анд, к бедным серым деревенькам, приютившимся в складках здешней скудной для хлеба земли, к безвинно страдающим рекам и речушкам, вечно забитым поваленным лесом, к неуютным работящим городам, жилые кварталы которых теснились среди шахт, рудников, заводов, — ко всему, что он, в общем-то, видел и знал с детства, и что, кажется, любил, но какой-то слишком требовательной и умной, холодно-придирчивой, а потому и поверхностной, небрежной любовью.
Стояла ночь, и отсюда, с соборной горы, он, конечно, не мог видеть все неохватное пространство лесов, простиравшихся на востоке, но в непривычном душевном озарении он его как бы чувствовал и одновременно вспоминал, пытался собрать в целостный образ те немногие лоскутки памяти, в которых хоть как-то отразился неяркий лик его родных мест. Вначале, кажется, было время, когда над этим краем властвовали только солнце да ветер, да начертанный шаманским посохом знак судьбы; то было время, когда в лесах, а не в музеях, окруженные засеками и обманными ямами стояли пермские боги — деревянные идолы, мансийские и пермяцкие аку-аку с грудами золотых самородков у ног, и пахли они, наверное, чем-то жутким, неведомым — свежей кровью, хвойной кислотой, волчьей шерстью... «Кумир же сей, — в почтительном страхе отмечал тогда летописец, — изсечен из древа, одеян одеждою зеленою... Его же злообразие написася подробно в лицех со всеми его знамением поставляем, но каково страшилище сие бесовское». Что же было потом? Он вспоминал: потом над землей, над людьми и зверьми и скрытыми в лесах и горах богатствами простерся русский православный крест — символ деяний «святаго жития» Стефана Пермского, водрузившего на спину пермскому медведю евангельский манускрипт — крестившего дикую Пермь. Из тьмы перед ним всплывали читанные где-то строки: «Улучив время, когда в кумирнице никого не было и когда она никем не была охраняема, Стефан поджег ее... От идолов и мнимых богов остался один пепел». Словом, где увещанием, где обманом миссия шла, и со временем узрел первобытный край в лице Христа мансийские скулы, косой разрез глаз, и тем открыл для русского царя дорогу в Сибирь. Тогда-то и вынули из карстовых провалов известковый камень, и встал над Камой собор. Как говорилось где-то, «звериный уклад языческой Перми всколыхнул пасхальный благовест». Дошел он, конечно, и до вражеских ушей. Ему представлялось: зимой, когда с укрытой тяжелыми льдами Камы ночами долетал волчий вой, небо над лесистыми гребнями гор тревожно мерцало отблесками не то полярного огня, не то пожарищ, зажженных ордами Кучума. Страшно было одинокому иноку, в дозорный час стоящему у стрельчатой бойницы на колокольне, глядеть туда, и крепко сжимала его рука древко секиры, натягивалась веревка, держащая язык набата, холодом и мраком дышала ему в спину чугунная тяжесть колокола... Что же было потом? А потом, естественно, наступала весна, уходили дальше в леса волки, горностаи, куницы, шли вниз льды, а навстречу им плыли, например, казаки Ермака и, оказавшись в виду храма, обращали к нему лики. И смолкала песня, и не бряцали пищали и палаши, и красиво трепетало на ветру золото хоругвей... Не все казаки возвращались назад, зато новой весной, издалека сняв шапки, крестились на собор торговые люди, проплывавшие на ладьях и барках в Орел-городок, Чердынь, Соль Камскую...

История киберпанка в русскоязычном пространстве стара и ведет отсчет не от тупых виртуалок Лукьяненко и даже не от спорных опытов Тюрина.Почти в то же самое время, когда Гибсон выстрелил своим "Нейромантом", в журнале "Знание - сила" вышла небольшая повесть Владимира Пирожникова "На пажитях небесных". Текст менее изысканный стилистически и менее жесткий в описаниях нашего возможного будущего, но ничем не хуже по смысловой нагрузке и сюжетной интриге. Там есть все атрибуты, присущие американскому киберпанку 80-х - компьютеры, сети, искусственный интеллект, размышления о власти и системе.Текст прошел незамеченным, его помнят разве что старожилы фэндома.(c) Станислав Шульга.
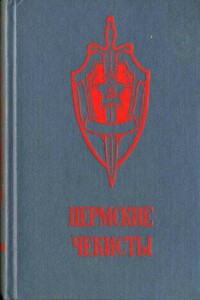
В 1982 году в Пермском книжном издательстве вышла книга «Подвиг пермских чекистов». Она рассказала об истории создания органов государственной безопасности в Прикамье, о деятельности чекистов в период Великой Отечественной войны.В предлагаемый читателю сборник включены очерки о сотрудниках Пермской ЧК, органов ГПУ. Однако в основном он рассказывает о работе пермских чекистов в послевоенное время, в наши дни.Составитель Н. П. Козьма выражает благодарность сотрудникам УКГБ СССР по Пермской области и ветеранам органов госбезопасности за помощь в сборе материалов и подготовке сборника.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Что если бы Элизабет Макартур, жена печально известного Джона Макартура, «отца» шерстяного овцеводства, написала откровенные и тайные мемуары? А что, если бы романистка Кейт Гренвилл чудесным образом нашла и опубликовала их? С этого начинается роман, балансирующий на грани реальности и выдумки. Брак с безжалостным тираном, стремление к недоступной для женщины власти в обществе. Элизабет Макартур управляет своей жизнью с рвением и страстью, с помощью хитрости и остроумия. Это роман, действие которого происходит в прошлом, но он в равной степени и о настоящем, о том, где секреты и ложь могут формировать реальность.

Впервые издаётся на русском языке одна из самых важных работ в творческом наследии знаменитого португальского поэта и писателя Мариу де Са-Карнейру (1890–1916) – его единственный роман «Признание Лусиу» (1914). Изысканная дружба двух декадентствующих литераторов, сохраняя всю свою сложную ментальность, удивительным образом эволюционирует в загадочный любовный треугольник. Усложнённая внутренняя композиция произведения, причудливый язык и стиль письма, преступление на почве страсти, «саморасследование» и необычное признание создают оригинальное повествование «топовой» литературы эпохи Модернизма.
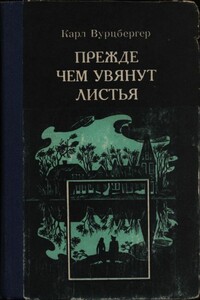
Роман современного писателя из ГДР посвящен нелегкому ратному труду пограничников Национальной народной армии, в рядах которой молодые воины не только овладевают комплексом военных знаний, но и крепнут духовно, становясь настоящими патриотами первого в мире социалистического немецкого государства. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Повесть о мужестве советских разведчиков, работавших в годы войны в тылу врага. Книга в основе своей документальна. В центре повести судьба Виктора Лесина, рабочего, ушедшего от станка на фронт и попавшего в разведшколу. «Огнем опаленные» — это рассказ о подвиге, о преданности Родине, о нравственном облике советского человека.

«Алиса в Стране чудес» – признанный и бесспорный шедевр мировой литературы. Вечная классика для детей и взрослых, принадлежащая перу английского писателя, поэта и математика Льюиса Кэрролла. В книгу вошли два его произведения: «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
