Навсегда - [14]
Постепенно Ваня затих. Оторвал спину от стены, вниз снова сполз — головой на подушку. И неподвижно, молча уставил застекленевшие глаза в потолок.
Затихла и Люба.
Так они и лежали, думая всяк о своем, а в сущности об одном: какое же это проклятье — война. Бездна какая-то. Бездна. И нет-нет да и разверзается неожиданно в тех, кто ее пережил, перенес, особенно кто прошел через фронт — через разлуки и ужасы, надежду и веру, через свои и чужие кровь, ранения, смерть. И ничем ее, эту бездну, не заполнить уже, не изжить. Ничем. Так и останется с ними навек, навсегда. До конца. И даже, похоже, чем дальше, тем пуще. И как же это так можно, чтобы люди сами себе отрывали ее — эту пропасть в душах своих? Как? Неужели мало им тех, что и так, помимо их воли, рано или поздно разверзаются в каждой судьбе сами собой — болезнями, волей слепого неумолимого случая, сроком, жестко отмеренным каждому наперед?
Люба легонечко вздрогнула, оторвалась от мужа, вскинула голову с его застывшего крутого плеча и с любопытством, несколько сверху стала смотреть на него. Муж по-прежнему неподвижно, молча глядел в потолок.
«Нельзя так, — забеспокоилась Люба. — Надо как-то отвлечь». И тут же нашлась.
— Ваня, а что тебе о Николае ответили? — как можно спокойней спросила она. — Ты ведь так и не дал мне письма.
С Колей Булиным (Ваня только на год был моложе), когда его отыскал и тот рассказал ему об отце, подружился. Вместе в вечернюю школу ходили, чтобы вспомнить программу и аттестаты получишь, вместе поехали в университет. Ваня на факультет журналистики поступал, как о том еще до войны в школе мечтал, а Николай выбрал экономический. Зато в общежитии снова оказались одном. Вдвоем всегда отправлялись и на разные приработки, всем, что имели, делились. И вдруг на третьем курсе Николая забрали. И не за какую-нибудь ерунду, что в ту пору было обычным, не по пустому навету, не за анекдот, за обмолвку, а за то, что он подвергнул сомнению правильность некоторых основных положений сталинского труда «Марксизм и вопросы языкознания». И сделал это на курсовом семинаре, публично. Тут же, правда, попытались образумить его. Но он принялся убежденно отстаивать свою правоту и несостоятельность аргументации Сталина.
— Я ему напишу, — вскочив, горячо кричал он. — От ошибок не застрахован никто. И он поймет, согласится… Он справедливый, он гений!
И Колю сперва на Васильевский остров, в лечебницу, а уж потом упекли и в тюрьму.
Ни на миг не задумавшись, Ваня бросился его выручать. Писал, ходил по инстанциям, на последние гроши дважды ездил в Москву. Все понапрасну. Перед ним стояла непробиваемая глухая стена. Странно еще, что его самого не схватили. И только теперь, после смерти Сталина, появилась надежда Николаю помочь. И Ваня удвоил усилия.
— Ну так что же в письме? — не дождавшись ответа, повторила жена.
— А ничего, — отозвался отрывисто Ваня. Шевельнулся, стиснул челюсти, желваками подвигал. — Гады, — выцедил он приставшее к нему еще от взводного Матушкина, с фронта ругательство. — Их бы всех за решетку, как Николая, ни за что ни про что. — Помолчал, глядя по-прежнему в потолок. — Вот подожду еще, подожду, да и устрою побег.
— Что, что, что? — в изумлении округлила Люба глаза.
— А что же еще остается, если правды, справедливости нет? Подумаешь, генсека покритиковал. А почему бы и нет, если он врет?
— Ты в своем уме или нет?.. Да и с побегом не выйдет у тебя ничего…
— Так уж и не выйдет, — покосился презрительно он на жену. — А этот… Наш… До того, как вождем, гением стать… Сколько, а?.. Семь раз, кажется, с царской каторги убегал? Семь! Так неужели не убежать из его? Ну хоть разик, хоть одному…
Люба еще упорнее уставилась испуганным взглядом на мужа.
— Да-а, — покрутила она пальцем у лба, — у тебя ума хватит.
— Он мой друг, не забывай. И с отцом моим воевал.
— Да, конечно… Теперь в огонь и в воду за ним… Как на войне. — Но встретив Ванин бесстрашный решительный взгляд, еще горячее принялась его убеждать:- Да это из царских застенков можно было бежать. Из царских. Он что, думаешь, не учел опыт своих семи удачных побегов? Еще как учел! И во какие повесил замки! — растопырив попросторнее свои точеные пальчики, вскинула руку она. — Это тебе не в кино, не в горком через лоджию лезть…
Посмотреть на экране, как взрывали нашу первую ядерную бомбу, пригласили в горком только избранных, только городскую верхушку, только своих. Возмущенный таким недоверием к массам, в том числе и к себе, Ваня со своим редакционным билетом прошел сперва в горкомовскую библиотеку, из нее через лоджию в кинобудку, а оттуда, когда свет погас, в кинозал.
То, что ему доводилось видеть на фронте, и сравнивать было нельзя с увиденным здесь. Что-то совершенно невообразимое, апокалипсическое. И все же, каким вулканическим ни было зафиксированное камерой столпотворение, только чуть оно улеглось, туда ринулись танки. А в них хотя и в специальных противогазах, костюмах, но все-таки люди, живые люди, солдаты. И не верилось даже, что можно выжить в этом аду.
А потом показали, как теперь обучают солдат танки встречать. Прет вовсю тяжелый танк прямо на них, а они — сами, по очереди — между гусениц, под него. Вскочат сзади, когда он над ним пройдет, и в хвост ему, в задницу, где броня послабей, где двигатель, где баки с горючим, индивидуальным ракетным снарядом, наподобие «фаустпатрона», или ручной противотанковой гранатой. Вот это учеба! Вот это подготовка так подготовка! Да после таких тренировок наплевать им на всякие танки. Плевать! На Кавказе, в сорок втором, до первой встречи с фашистами Ваня не то чтобы вражеских «тэшек», но даже и наших русских танков ни разу не видел, И разговоров не было о том, чтобы учебными снарядами по ним пострелять. Вхолостую учились стрелять, на коротких привалах, пока несколько дней шагали на фронт. Гонят по полю конную упряжь, орудийный пустой передок, а они, пацаны, так, без снарядов, одними глазами через «ПП-9», прицел поочередно (пушка-то на всю батарею одна) целятся в них. И потому, только увидел в свой фронтовой первый день немецкие «тэшки»- так и прут, так и прут на него, — обалдел. Проморгал со страху одну, самую первую, пропустил на наши окопы, а она и давай русских иванов давить. До сих пор не только себе, но и всем, кто в том виноват, вплоть до самого, самого не может простить. Вспомнит — так и клянет: и их, и его, и себя, как, не приведи бог, если придется браться за оружие снова, клясть свое руководство будущим нашим солдатам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Трилогия участника Отечественной войны Александра Круглова включает повести "Сосунок", "Отец", "Навсегда", представляет собой новое слово в нашей военной прозе. И, несмотря на то что это первая книга автора, в ней присутствует глубокий психологизм, жизненная острота ситуаций, подкрепленная мастерством рассказчика.
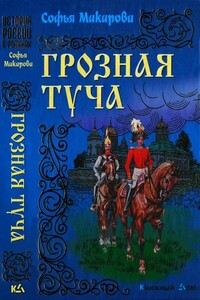
Софья Макарова (1834–1887) — русская писательница и педагог, автор нескольких исторических повестей и около тридцати сборников рассказов для детей. Ее роман «Грозная туча» (1886) последний раз был издан в Санкт-Петербурге в 1912 году (7-е издание) к 100-летию Бородинской битвы.Роман посвящен судьбоносным событиям и тяжелым испытаниям, выпавшим на долю России в 1812 году, когда грозной тучей нависла над Отечеством армия Наполеона. Оригинально задуманная и изящно воплощенная автором в образы система героев позволяет читателю взглянуть на ту далекую войну с двух сторон — французской и русской.
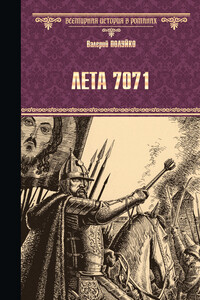
«Пусть ведает Русь правду мою и грех мой… Пусть осудит – и пусть простит! Отныне, собрав все силы, до последнего издыхания буду крепко и грозно держать я царство в своей руке!» Так поклялся государь Московский Иван Васильевич в «год 7071-й от Сотворения мира».В романе Валерия Полуйко с большой достоверностью и силой отображены важные события русской истории рубежа 1562/63 года – участие в Ливонской войне, борьба за выход к Балтийскому морю и превращение Великого княжества Московского в мощную европейскую державу.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.
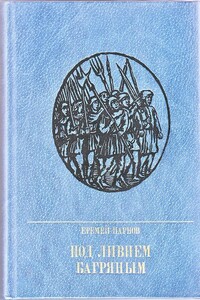
Таинственный и поворотный четырнадцатый век…Между Англией и Францией завязывается династическая война, которой предстоит стать самой долгой в истории — столетней. Народные восстания — Жакерия и движение «чомпи» — потрясают основы феодального уклада. Ширящееся антипапское движение подтачивает вековые устои католицизма. Таков исторический фон книги Еремея Парнова «Под ливнем багряным», в центре которой образ Уота Тайлера, вождя английского народа, восставшего против феодального миропорядка. «Когда Адам копал землю, а Ева пряла, кто был дворянином?» — паролем свободы звучит лозунг повстанцев.Имя Е.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
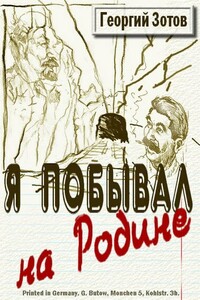
Второе издание. Воспоминания непосредственного свидетеля и участника описываемых событий.Г. Зотов родился в 1926 году в семье русских эмигрантов в Венгрии. В 1929 году семья переехала во Францию. Далее судьба автора сложилась как складывались непростые судьбы эмигрантов в период предвоенный, второй мировой войны и после неё. Будучи воспитанным в непримиримом антикоммунистическом духе. Г. Зотов воевал на стороне немцев против коммунистической России, к концу войны оказался 8 Германии, скрывался там под вымышленной фамилией после разгрома немцев, женился на девушке из СССР, вывезенной немцами на работу в Германии и, в конце концов, оказался репатриированным в Россию, которой он не знал и в любви к которой воспитывался всю жизнь.В предлагаемой книге автор искренне и непредвзято рассказывает о своих злоключениях в СССР, которые кончились его спасением, но потерей жены и ребёнка.