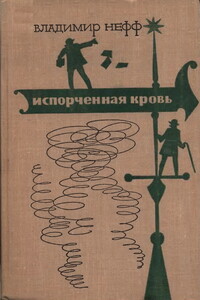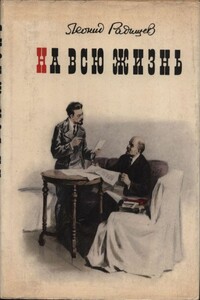Незабвенной Люсеньке -
жене и матери, человеку и гражданину -
посвящаю эту книгу.
До конца августа сорок второго по всему Кавказскому фронту шли непрерывные упорные бои. Фашисты рвались к нефти, к богатствам Советского Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, на соединение с армией союзнической Турции.
В эту грандиозную операцию под кодовым названием "Эдельвейс" гитлеровцы бросили танков в девять раз больше, чем здесь было у нас, самолетов — в восемь, артиллерии — в два. И даже в солдатах был у них полуторный перевес.
(Из истории Великой Отечественной войны).
И дрогнули наши у небольшого горного городка Малгобек. И побежали — нервишки у кого послабей. Те в основном, которых лишь накануне второпях призвали в армию и сразу, не успев научить воевать, направили в маршевый полк; трехлинейку, подсумок с патронами в зубы — и в бой.
На беду свою драпали вниз по овражку. Нарвались как раз на капэ.
Оттуда — штабные.
— Стой! — во всю глотку. — Назад!
Какое там… Бегут — кто в одиночку, кто по двое, по трое, целыми группками. Что им штабные? Эти лишь пистолетами машут, кричат — пусть не поместному, непонятно тоже, но все же привычно, по-русски. А немцы — как лают: отрывисто, жутко, хуже собак. В полный рост в атаку идут, поливая из автоматов свинцом прямо от бедер, кромсают в ошметья снарядами, танками давят. Страшнее фашистов сейчас зверя нет.
И тогда из командного пункта (в три наката блиндаж, сверху слой сухого летнего дерна) выскочил сам комполка.
— Назад! — взревел. — Убью! Ни шагу назад!
Все одно… Бегут ошалевшие, все позабыв, не чуя ног под собой.
И — две шпалы в петлицах, высоченный, плотный и грузный, словно бетонная балка в плечах, — подняв над головой "тэтэ", давай остервенело стрелять. Широкое, блином лицо его налилось, храп изо рта, трехэтажный яростный мат.
Видя, как решительно действует батя, и штабные последовали за ним. Особенно старался невысоконький, полненький, в новенькой шерстяной гимнастерке и очках на темных суетливых глазах.
— В окопы! Назад! — повторяя за комполка, рвал он истошно свою охрипшую командирскую глотку. — Ни шагу назад! — так же размахался вовсю пистолетом.
Стреляли и здесь.
Беглые дрогнули, заметались растерянно. И повернули обратно. А кто, вконец одурев, залег прямо здесь, у капэ, на избитой и тут снарядами, минами, пулями голой иссохшей земле. Иные даже успели свалиться в траншеи охраны штаба полка. И, как палки, выставили в беспамятстве в сторону наседавших немцев дрожавшие в руках винтовки. Хоть немного, а все-таки дальше от переднего края. Там — сплошная стальная метель, валят стеной на тебя фашисты проклятые. Там кровь, страдания, смерть.
Ваня Изюмов пораженно смотрел на то, как возвращали в траншеи бегущих. Вспомнил расстрел дезертира на марше. Как и тогда, снова леденящий ужас пронял, пот холодный — от макушки до пяток, стал белым как мел, опять неудержимо мелко затрясся. Невольно вжался всем телом в земляную отвесную стену окопа, ухватился за нишку, что сам своей солдатской алюминиевой ложкой выскреб под пару лимонок и обоймы с патронами. Замер. Затих. Онемел.
"Господи! Что же это такое? — так и билось, и билось в потрясенном юном мозгу. — Как же так можно? Чтобы свои стреляли своих! Да нет же, нет! Да не может этого быть!"
Но это было… Было! Совершалось перед его распахнувшимися, g`qrejkemebxhlh в изумлении глазами. Да вот, вот они, что бежали, а теперь лежат неподвижно безобразно бугрятся перед окопами в пожухлой траве. Только одно, казалось, так и гвоздило каленым железом, так, ослепляя, и направляло действия тех, кто не давал разрастись возникшей было панике. Одно: день или ночь, тьма или свет, смерть или жизнь — народа всего, государства, страны, в отдельности каждого. Каждого! От велика до мала: женщин, детей, стариков! Она, эта жизнь, и карала сейчас беспощадно слабодушных, защищала себя всеми возможными и невозможными средствами. И взывала… Ко всем взывала: постойте за меня! Ради нее и творилось все это вокруг, ради нее всех сюда и согнало. Всех, всех, кто только мог держать в руках боевое оружие. Если не ковал для фронта его или где-нибудь уже не сражался. И новобранцев, и этих штабных с командиром полка, и Ваню сюда — Ваню Изюмова, еще мальчишку совсем, жалкого, прямо из-под крылышка мамы, из-за папиной широкой спины, со школьной скамьи, и — в кровь, в пекло и тлен.
Одолевая смятение, Ваня вскинул глаза.
Вон еще кто-то с переднего края бежит — сломя голову возбужденно руками размахивает. И тоже как раз на капэ — длинноногий, худой, в истоптанных хромовых командирских сапожках.
— Танки! — крикнул хрипло и сорванно, взмахнув, показал костлявой рукой туда, откуда бежал.
— Назад! — рванулся наперерез и ему командир, снова задрал вверх пистолет. — Убью! — И замер, язык прикусил. Приспустил пистолет. Да это же свой, один из штабных, помощник его — ответственный за охрану знамени в штаба полка, без фуражки (зажата в руке), нараспашку воротник гимнастерки, лицо словно мел.
— Танки! — приближаясь, опять крикнул тот — три кубаря на петлицах, через плечо автомат. — Я пушку, пушку там!.. — споткнулся, руками взмахнул, едва не упал. — Трофейную! Тут недалеко! Штаб прикрывать!