Навруз - [4]
народного сознания». «Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и знания, — такой страны в Европе не оста лось ни одной, кроме России»[3], — писал В. И. Ленин как раз в то время, когда для автобиографического героя романа «Навруз» «начинался новый день… жизни. И возникал он на пороге мечети». Этого одного-единственного дня оказалось достаточно, чтобы на всю жизнь запомнить, что такое мактаб — школа при мечети. «Ни один луч не коснулся ни нашего сердца, ни нашего разума. Тьма. Постоянная тьма. Она была во всем. И в словах, непонятных нам, и в системе, которую устанавливал учитель. Она зиждилась на слепом, рабском повиновении, беспрекословности, фанатизме. Делан то, что тебе говорят, повторяй то, что произносят, верь, по что верует другой». Приемами социальной сатиры выписана в романе фигура муллы — наставника, воспитателя юношества. Воистину, как говорят в народе, «мулла сыт не оттого, что он грамотный». Ремесло нахлебника сделало его алчным, бесстыдным, злым. Рядом с ним неоткуда было взяться высоким мыслям, светлым порывам, благородным чувствам. «Человек формируется на примерах, а пример домуллы был страшен. Никому, никому из нас не хотелось быть на него похожим. Поступки его вызывали отвращение, жадность — насмешки… Он знал, что мы не любим его. И чтобы влиять на нас, вселял в каждого страх. Страх, поражающий волю, испепеляющий душу. Почти каждый день на наших глазах совершались избиения, пытки. В комнате, у степы, на видном месте лежали орудия истязания, специально изготовленные для этой страшной цели».
Таков мрачный, потусторонний мир мечети, где царит зловещая тишина, «высятся каменные своды и темнеют мертвые оконца келий», — сквозь них не прорваться живым голосам. Но они раздаются за стенами мактаба, которые не застят свет герою романа. Нет для него большей радости, чем, возвращаясь из школы домой в махаллю, наблюдать за работой «удивительного кудесника, который из куска железа способен сделать красивую подкову, или серп, или кетмень. Мы, мальчишки, с любопытством вглядывались в полумрак кузниц, где полыхало упрятанное в глиняном закутке пламя и стучали звонко молотки». Живя среди ремесленного люда, в простой семье бедолаг-тружеников, он жадно впитывает в себя народные представления о добро и зле, которыми проникнуты нормы трудовой морали и выработанные на их основе социальные, нравственные, этические идеалы. В конечном счете это предопределяет тот выбор, который делает Назиркул между старшими братьями в поисках примера, образца для себя.
Оба они кузнецы. Но «один слыл бездумным гулякой, а другой — степенным, уважаемым всеми человеком; один мало заботился о деле, другой жил работой, отдавал ей силы и душу. У Насыра были веселые руки — он играл на дойре и дутаре, а у Касыма — искусные руки. Его так и звали: Касым-фаранг — искусный Касым. И еще величали аксакалом-белобородым, хотя борода у него была черная и лет минуло всего-навсего тридцать. Аксакал — это ум, мудрость, знание жизни, умение видеть истину». Автобиографический герои-рассказчик отдает предпочтение рукам искусным, но о вдохновении Насыра повествует так же вдохновенно, как того и заслуживает волшебство дойры или дутара, которые, обретя в веселых руках музыканта дар речи, возвышают его над чередой обыденного. Ведь «дома он бывал не таким. Дома он бывал обычным — молчаливым, скучным, злым. И некрасивым. Но лишь загорался в чайхане или михманхане керосиновый фонарь под потолком, обливая все вокруг голубым светом, как Насыр преображался. И лицо, и руки становились необыкновенными, от них нельзя было оторвать глаз». По иначе как соловей подпевает музыканту — говорят в махалло о таланте Насыра, умеющего «извлекать такие ликующие трели из обыкновенного бубна». Влюбленно, завороженно смотрит на него и младший брат. Но когда старшие спрашивали Назиркула, на кого из братьев ему хотелось бы походить самому, каким стать в будущем, он отвечал, но колеблясь:
«— Таким, как Касым-фаранг…
Они смеялись. Но смеялись почему-то не осуждающе, а одобрительно, даже с завистью, словно им тоже хотелось походить на моего старшего брата, искусного Касыма, а не на весельчака Насыра…
— Ишь ты, — говорили они. — Неплохо решил. Касым — хороший парень. Золотые руки и мудрая голова у Касыма. Касым — Человек!
После этих слов мне становилось жаль Насыра — ведь он всех веселил, всем доставлял радость. Почему же никто по хочет быть похожим на Насыра! Даже я — его брат!
Позже я понял это. Жизнь людей проходила в труде, и труде нелегком. Порой мучительном. Тот, кто каждый день от зари до зари гнул спину, кому кусок хлеба давался в поте лица, тот ценил дар умельца. Золотые руки прежде всего нужны в деле — у наковальни и горна, у котла с мылом, у дубильного чана, а потом ужо в праздничном кругу».
Вчитаемся в эти раздумья, приведенные возможно полнее для того, чтобы показать, как многозначно писательское слово, сколько потаенных смыслов таит в себе. Покоренный искусством брата-музыканта, но предпочитая ему искусство брата-умельца, герой-повествователь но скрывает и той горечи, которую рождает в нем понимание обреченности, гибельности таланта, чьи высокие порывы к прекрасному не получают падежной опоры в жизни. По, погребенные под спудом повседневья, они ярко выражают неизбывные духовные силы народа, которые лишь до поры до времени скованы условиями подневольного существования.
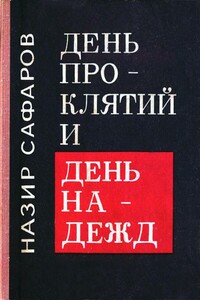
«Страницы прожитого и пережитого» — так назвал свою книгу Назир Сафаров. И это действительно страницы человеческой жизни, трудной, порой невыносимо грудной, но яркой, полной страстного желания открыть народу путь к свету и счастью.Писатель рассказывает о себе, о своих сверстниках, о людях, которых встретил на пути борьбы. Участник восстания 1916 года в Джизаке, свидетель событий, ознаменовавших рождение нового мира на Востоке, Назир Сафаров правдиво передает атмосферу тех суровых и героических лет, через судьбу мальчика и судьбу его близких показывает формирование нового человека — человека советской эпохи.«Страницы прожитого и пережитого» удостоены республиканской премии имени Хамзы как лучшее произведение узбекской прозы 1968 года.
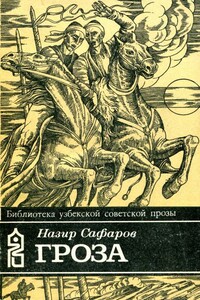
Долгими были поиски человеческого счастья у юного Хатама, а обладание этим счастьем оказалось коротким. Какие-то мгновения. По следам героя уже мчались на быстрых конях нукеры эмира, чтобы убить само желание найти счастье. Роман народного писателя Узбекистана Назира Сафарова «Гроза» возвращает читателя в предреволюционный бухарский эмират, дает широкую картину жизни простого люда, обездоленного, угнетенного, бесправного, но идущего по пути к свету, свободе и счастью.
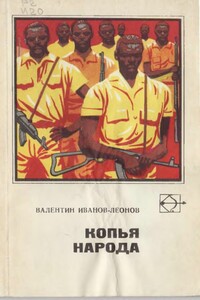
Повести и рассказы советского писателя и журналиста В. Г. Иванова-Леонова, объединенные темой антиколониальной борьбы народов Южной Африки в 60-е годы.
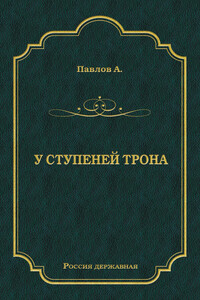
Александр Петрович Павлов – русский писатель, теперь незаслуженно забытый, из-под пера которого на рубеже XIX и XX вв. вышло немало захватывающих исторических романов, которые по нынешним временам смело можно отнести к жанру авантюрных. Среди них «Наперекор судьбе», «В сетях властолюбцев», «Торжество любви», «Под сенью короны» и другие.В данном томе представлен роман «У ступеней трона», в котором разворачиваются события, происшедшие за короткий период правления Россией регентши Анны Леопольдовны, племянницы Анны Иоанновны.
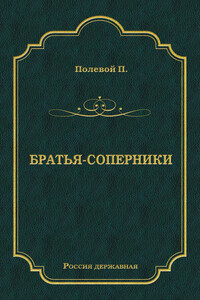
Петр Николаевич Полевой (1839–1902) – писатель и историк, сын Николая Алексеевича Полевого. Закончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где в дальнейшем преподавал; затем был доцентом в Новороссийском университете, наконец профессором Варшавского университета. В 1871 г. Полевой переселился в Санкт-Петербург, где занялся литературной деятельностью. В журналах публиковал много критических статей по истории русской литературы. В 1880-х гг. Полевой издавал «Живописное обозрение».
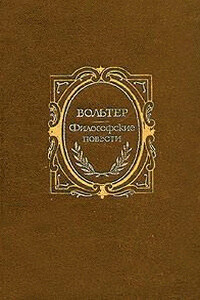
Из огромного художественного наследия Вольтера наиболее известны «Философские повести». Писатель блистательно соединил традиционный литературный жанр, где раскрываются кардинальные вопросы бытия, различные философские доктрины, разработанные в свое время Монтескье и Дж. Свифтом, с пародией на слезливые романы о приключениях несчастных влюбленных. Как писал А.Пушкин, Вольтер наводнил Париж произведениями, в которых «философия заговорила общепонятным и шутливым языком».Современному читателю предоставляется самому оценить насмешливый и стремительный стиль Вольтера.

Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.

Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.