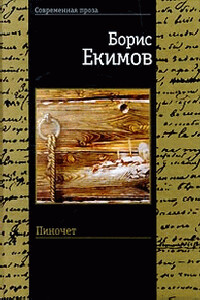Обеды, ужины, завтраки, дела домашние, огородные, о скотине да птице забота. А еще — все лето готовить к зиме припасы. Варенья варить, компоты. Ни одна ягодка, ни одно яблочко не пропадет. Клубника, вишня, смородина, алыча, абрикосы, сливы, груши… Банка за банкой. На жарком солнцепеке — просторные противни. Сушатся нарезанные фрукты для зимних компотов-взваров. На солнце же сохнет пастила: сливовая, яблочная. Маринуются помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки. Готовятся и тоже закрываются в банки салаты с репчатым луком, алым болгарским перцем. Густые томатные да перцовые заправки, без которых борща не получится, а лишь бледные «больничные» щи. Наш борщ пламенеет в тарелке. От запаха — голова кругом: укроп и чеснок, петрушка, белые корешки ее и ажурные листики.
За банкою банка уходят в прохладную тьму погреба и подполья.
А осенью квасятся и солятся в высоких бочках капуста, помидоры, огурцы, мочатся крупный «калеградский» терн и «яндыковские» яблоки в ржаном сусле, в соломе.
Все это — тетя Нюра, ее руки. И все съедалось. Картошки сварит, достанет пахучих огурчиков в укропе да миску щекастых алых помидорчиков в смородиновом да вишневом листе, с хренком для запаха. Сели к столу. Хрумтят да почмокивают. Наелись.
За зиму все уходило. Пустели погреб, подполье. Летом все начиналось сызнова. Едоков хватало. Гости приезжали: тетя Нина, дядя Миша, Анатолий, Жанна, Харитоненки с Украины, Славин друг Сема, детдомовский сирота, подолгу живал. На лето тетя Нюра сшила ему белые брюки, рубашки. «С первой получки, — обещал Сема, — куплю вам отрез на платье». Сколько их было, этих обещаний! Конопатый Генка соседский — тоже сирота. Рубашку ему сошьет. «Вырасту, с первой получки…» Она всех жалела, особенно сирот. А для меня — так вовсе защита.
У дяди Пети, человека много перенесшего и больного, характер был очень нелегкий: часто ворчлив, придирчив по мелочам и вспыльчив до бешенства. А я с малых лет не больно уступчив. Вот и доставалось порой. Защита моя — тетя Нюра. Помню, в детский сад я еще ходил. С утра заупрямился: старшие добивались, чтобы я сам чулки пристегнул к резинкам. Нехитрое приспособление — петля да шпенек. А я говорю: «Не могу… Не умею…» Слово за слово… Дядя Петя хватает кусок провода и начинает стегать меня, все более ожесточаясь. Мать кудахчет: «Правильно… Надо учить, надо учить… Чтоб не упрямился». Хорошенькая учеба… Спасибо тете Нюре. Она была в огороде, услышала крик, прибежала и отняла меня.
Было, всякое было. Но когда на меня поднималась нелегкая дядина рука, защитой была тетя Нюра. Порой ей за это доставалось, и довольно крепко. Она плакала, но стояла на своем: «Ругать — ругай… Но бить — не смей».
Спасибо, тетя Нюра. За все…
Она умерла пять лет назад. Схоронили и помянули как положено: на девятый день, на сороковой. Потом пошли годовщины.
Умерла. Но долго казалось мне, что тетя Нюра где-то здесь: в огороде, в летней кухне, в сараях — словом, в привычных заботах. И вот сейчас она выйдет, покажется… Вот-вот…
Она не вышла, она умерла. И старый дом наш стал быстро дряхлеть. Стены его остались теми же, но словно вынули из нашего дома душу. А без нее всякой жизни недолгий срок. У людей, у вещей и у нашего дома.