Наполеон Бонапарт: между историей и легендой - [11]
Употребив слово «имитаторы», Ламартин пустил «парфянскую стрелу» в адрес Тьера. Дело в том, что перед началом заседания в кулуарах ходило выражение Ламартина: «прах Наполеона не остыл, из него раздувают искры». Тьер попытался отговорить Ламартина принимать участие в обсуждении, опасаясь его воспламеняющих слов. «Нет, - ответил ему Ламартин, - надо обескуражить имитаторов Наполеона. - О! Но кто сегодня может мечтать о том, чтобы его имитировать? - Вы правы, я хотел сказать пародистов Наполеона». Слово облетело Париж, выставляя в невыгодном свете Тьера>90>.
В Палате депутатов была создана комиссия во главе с маршалом Бертраном Клозе-лем, предложившим удвоить бюджет. Однако ему отказали и утвердили прежнюю сумму в размере 1 млн франков. 5 июня Луи-Филипп подписал этот закон>91>. Из Лондона Жозеф Бонапарт предложил от себя дополнительный миллион, но его предложение отклонили.
Дискуссию вызвал вопрос о месте захоронения останков. Сначала их хотели упокоить под Вандомской колонной. Потом предлагались Марсово поле или церковь Мадлен, которая, по словам Клозеля, «не принадлежала никому и имела полное право принадлежать только ему». Среди других мест называли Пантеон и Сен-Дени. Шатобриан предлагал похоронить Наполеона под сводом Триумфальной арки, но эту идею сочли слишком языческой; Стендаль - в Сен-Клу. В итоге выбрали Собор Инвалидов. По замечанию А. Журдан, этот выбор символизировал то, что военачальник вновь одержал верх над законодателем и императором>92>.
* * *
Известие о перезахоронении останков Наполеона произвело на французское общество эффект электрошока, страна пришла в состояние патриотической эйфории; вновь заговорили о победах, завоеваниях и естественных границах.
Княгиня Ливен писала Гизо о реакции во Франции на это событие и выражала опасения, что эта акция может иметь негативные последствия для социального порядка и спокойствия во Франции. Она писала 13 мая: «Воспретят ли семейству Бонапарта присутствовать при погребении его останков? Это было бы неслыханной несправедливостью. Но дозволить это было бы опасно. Так как эта церемония придется, быть может, на момент новых выборов, то не будет ли это подстроено левой? Словом, все это довольно странно... Я нахожу, что одинаково трудно позволить это и запретить. Несомненно одно - что вы создали себе этим очень большие затруднения»>95.
В письме английскому политику лорду Дж. Абердину, который в 1841 г. возглавит внешнеполитическое ведомство, она выражалась в более резком тоне об этой затее, имевшей, >93> по ее справедливому замечанию, «огромное политическое значение»: «Хотят возбудить страсти, и никого нельзя ввести в заблуждение, что это просто дань памяти великому человеку». Ливен отмечала, что «это спектакль, недостойный и нации, и героя, которого хотят прославить. После того как с энтузиазмом утвердили проект перемещения, теперь спорят о цифрах! Неделю находятся в возбужденном состоянии и торгуются! Вот вам французское легкомыслие. Стране за это будет стыдно...» Отмечая, что в Париж со всех концов страны прибывают депутации и что «возрождается 1789-й год», княгиня делала вывод, что «все это очень по-французски!»>94>.
Сообщая Гизо о реакции иностранных представителей, она писала 18 мая: «У меня был сегодня утром принц Павел Вюртембергский. Он предвидит всяческие бедствия. Он не понимает, как правительство добровольно ищет повода к смуте и уличным беспорядкам. Он говорил об этом Тьеру и страшно все преувеличивал. Тьер сказал: «Я отвечаю за все, но я один могу сделать это. При всяком другом министерстве это могло бы вызвать революцию». Принц также добавил: «Тьер считает себя кардиналом Ришелье. Ничто не сравнится с его смелостью и самоуверенностью»>95>.
Свои опасения выражал и знаменитый немецкий поэт Генрих Гейне. Он писал 30 мая 1840 г., что «если первое впечатление французов было благоприятным, а дискуссии касались только деталей: где, например, похоронить императора, то постепенно настроения изменились, по крайней мере в Палате; депутаты анализировали опасности, которые могло спровоцировать торжество, и опасались усиления позиций бонапартистов...»>96>
Только оппозиция восприняла это известие критически. «Несчастные! - писала Nationale. - Почему вы пытаетесь изменить историю?»>97> Бурей разразились и легитимисты. «La Gazette de France» писала о том, что Луи-Филипп, держащий в своих руках прах Наполеона - это скандал, вызывающий в памяти слова Екатерины Медичи, сказанные якобы после смерти адмирала Колиньи: «Тело врага вызывает приятное чувство».
Некий барон Дюкас опубликовал брошюру в весьма ядовитом духе: «Вы намереваетесь воздать честь великому человеку, но великий человек не нуждается в ваших почестях... Вы хотели смыть все свои предательства? Нет и еще раз нет <...> вы снова готовы предать...»>98>
Причем речь шла уже не о Наполеоне Бонапарте, реальном историческом деятеле, а о легенде, образе, порой не имеющем ничего общего ни с реальным Бонапартом, ни с его заслугами и делами. Иллюзии о Наполеоне формировали и представления французов о них самих, о месте и роли Франции, о ее величии и победах, не былых, а самых настоящих. Шатобриан писал: «Если мне удалось передать то, что я чувствую, мой портрет запечатлеет одного из величайших исторических деятелей, но я отказываюсь рисовать то фантастическое создание, чей образ соткан из выдумок, - выдумки эти родились на моих глазах, и вначале никто не воспринимал их всерьез, но с течением времени глупая и самодовольная доверчивость людская возвела их в ранг истин»

Россия в годы царствования императора Николая I (1825–1855) и Франция в эпоху правления конституционного короля Луи-Филиппа Орлеанского (1830–1848). Это был период резкого ограничения контактов, что было вызвано негативным отношением российского самодержца к режиму, рожденному революцией. Однако, несмотря на жесткое, порой на грани конфронтации, противостояние, между нашими странами происходило и постоянное взаимодействие. Это был первый опыт сложных и противоречивых отношений между российским самодержавием и французским либерализмом. Отношения между странами – это отношения между народами.

Франсуа Пьер Гийом Гизо (1787–1874) является одной из ключевых фигур политической жизни Франции эпохи Реставрации (1814–1830) и Июльской монархии (1830–1848). Он был первооткрывателем в различных областях научного знания, таких как педагогика, конституционное право, история и социология. Как и многие из его современников, Гизо сделал две карьеры одновременно: политическую и научную, но неудача первой затмила блеск второй. После Революции 1848 г. в забвении оказался не только политолог эпохи Реставрации, но и крупный специалист по истории Франции и Великобритании.

Монография посвящена проблеме самоидентификации русской интеллигенции, рассмотренной в историко-философском и историко-культурном срезах. Логически текст состоит из двух частей. В первой рассмотрено становление интеллигенции, начиная с XVIII века и по сегодняшний день, дана проблематизация важнейших тем и идей; вторая раскрывает своеобразную интеллектуальную, духовную, жизненную оппозицию Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого по отношению к истории, статусу и судьбе русской интеллигенции. Оба писателя, будучи людьми диаметрально противоположных мировоззренческих взглядов, оказались “versus” интеллигентских приемов мышления, идеологии, базовых ценностей и моделей поведения.
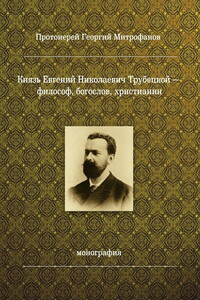
Монография протоиерея Георгия Митрофанова, известного историка, доктора богословия, кандидата философских наук, заведующего кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, написана на основе кандидатской диссертации автора «Творчество Е. Н. Трубецкого как опыт философского обоснования религиозного мировоззрения» (2008) и посвящена творчеству в области религиозной философии выдающегося отечественного мыслителя князя Евгения Николаевича Трубецкого (1863-1920). В монографии показано, что Е.
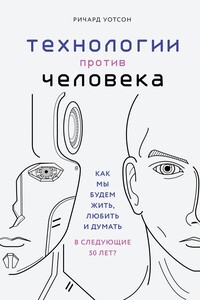
Эксперты пророчат, что следующие 50 лет будут определяться взаимоотношениями людей и технологий. Грядущие изобретения, несомненно, изменят нашу жизнь, вопрос состоит в том, до какой степени? Чего мы ждем от новых технологий и что хотим получить с их помощью? Как они изменят сферу медиа, экономику, здравоохранение, образование и нашу повседневную жизнь в целом? Ричард Уотсон призывает задуматься о современном обществе и представить, какой мир мы хотим создать в будущем. Он доступно и интересно исследует возможное влияние технологий на все сферы нашей жизни.
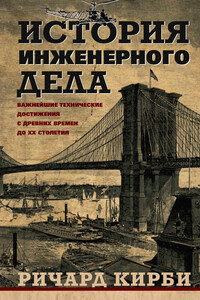
Настоящая книга представляет собой интереснейший обзор развития инженерного искусства в истории западной цивилизации от истоков до двадцатого века. Авторы делают акцент на достижения, которые, по их мнению, являются наиболее важными и оказали наибольшее влияние на развитие человеческой цивилизации, приводя великолепные примеры шедевров творческой инженерной мысли. Это висячие сады Вавилона; строительство египетских пирамид и храмов; хитроумные механизмы Архимеда; сложнейшие конструкции трубопроводов и мостов; тоннелей, проложенных в горах и прорытых под водой; каналов; пароходов; локомотивов – словом, все то, что требует обширных технических знаний, опыта и смелости.

Что такое, в сущности, лес, откуда у людей с ним такая тесная связь? Для человека это не просто источник сырья или зеленый фитнес-центр – лес может стать местом духовных исканий, служить исцелению и просвещению. Биолог, эколог и журналист Адриане Лохнер рассматривает лес с культурно-исторической и с научной точек зрения. Вы узнаете, как устроена лесная экосистема, познакомитесь с различными типами леса, характеризующимися по составу видов деревьев и по условиям окружающей среды, а также с видами лесопользования и с некоторыми аспектами охраны лесов. «Когда видишь зеленые вершины холмов, которые волнами катятся до горизонта, вдруг охватывает оптимизм.
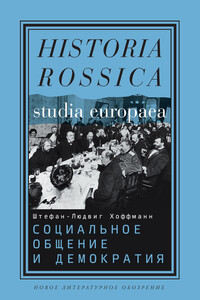
Что значат для демократии добровольные общественные объединения? Этот вопрос стал предметом оживленных дискуссий после краха государственного социализма и постепенного отказа от западной модели государства всеобщего благосостояния, – дискуссий, сфокусированных вокруг понятия «гражданское общество». Ответ может дать обращение к прошлому, а именно – к «золотому веку» общественных объединений между Просвещением и Первой мировой войной. Политические теоретики от Алексиса де Токвиля до Макса Вебера, равно как и не столь известные практики от Бостона до Санкт-Петербурга, полагали, что общество без добровольных объединений неминуемо скатится к деспотизму.