Надсон - [2]
«Покуда на свете есть слезы»… так простодушна эта вера, что настанет некогда время, когда на свете не будет слез. Покуда есть слезы, покуда царит мгла, до тех пор нельзя отдаваться личной жизни – какая хроническая, какая безнадежная отсрочка!..
Когда людям совестно солнца, цветов, счастья, когда они отнимают у себя право на самих себя, на свою долю земного пиршества, когда они не умеют и не смеют быть счастливыми и свободными, тогда, естественно, и к свободному художеству не будут они иметь доступа и никто из них не станет вольным поэтом. Они мешают сами себе. И эта внутренняя связанность, эта надломленность души, эта душевная неловкость проявится и в самом построении, в самой форме творчества – поневоле запинающегося и негладкого. Так возвращается к Надсону особого рода целостность – печальная гармония между его ощущениями и его словами. Конечно, если бы он обладал большим талантом, он разорвал бы свои путы; но даже и в таком случае сказалась бы в его произведениях его зависимость от посторонней среды и отсутствие самоутверждения и самоуважения.
Нравственно худосочный, певец бессилия, поэт слабости, Надсон недаром провозглашал, что «только утро любви хорошо». Страстной полнозвучности не было ни в складе, ни в содержании его стихов. Для прекрасного, для цветущего эгоизма недоставало ему силы. Но и общественность его общее место. Ни пафоса личности, ни пафоса гражданственности.
Многое запечатлелось на нем от его эпохи. Но ведь эпоха эта прошла, а он остался. Почему? Не потому ли, что русская молодежь подметила в нем черты, сходные с собою, с молодостью вообще: она тоже хочет личного счастья, но она же близко к сердцу принимает судьбу чужую? Молодости – дело не только до себя, но и до других. Страстно заинтересованная своими романами и грезами, она в то же время бескорыстна. Употребляя выражение Толстого, «беспредметную», неприуроченную силу свою она ищет приложить к самым различным точкам жизни. И мечется среди них, и колеблется, протягивает руку к цветам, смущенно останавливает ее, откликается на зовы радостей и немеет перед ними, склоняется в упоении перед любимым существом, но призывает его на трудную дорогу гражданского служения. Если такая раздвоенность глубока и трагична, она в своих поэтических отблесках, в литературном воспроизведении порождает красоту. У Надсона ее нет. Когда он говорит своей избраннице: «Друг твой не изменит заветам совести и родине своей, выше красоты в тебе он душу ценит, ее отзывчивость к страданиям людей», то это, как и многое другое у него, звучит лишь нестерпимой прозой. Но понятно, что души простодушные он волнует, и откликаются ему те милые сердца, которые боятся разрешить себе счастливость. Они и не устают слушать этот «голос с нервной дрожью», они находят в его стихах росу души – неподдельные слезы, они не замечают его эстетических пороков и сострадательно воспринимают его боль, его болезнь, его несчастность.
И в самом деле, пусть в историю русской дряблости Надсон стихами своими вписал заметную страницу, но именно потому его личная биография, явленная в них, представляет собою также и отрывок из общей жизни, не искусную, но достаточно безыскусственную повесть о нашей слабости.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
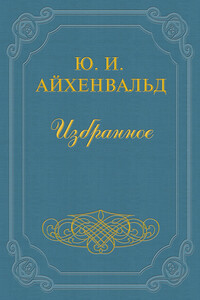
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
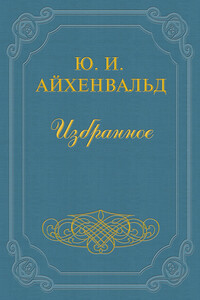
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
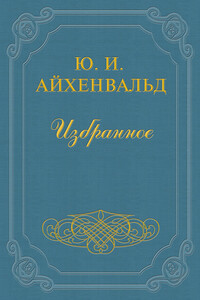
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».
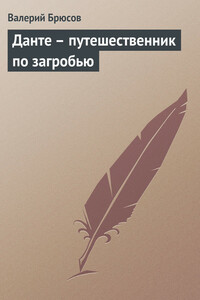
«„Герой“ „Божественной Комедии“ – сам Данте. Однако в несчетных книгах, написанных об этой эпопее Средневековья, именно о ее главном герое обычно и не говорится. То есть о Данте Алигьери сказано очень много, но – как об авторе, как о поэте, о политическом деятеле, о человеке, жившем там-то и тогда-то, а не как о герое поэмы. Между тем в „Божественной Комедии“ Данте – то же, что Ахилл в „Илиаде“, что Эней в „Энеиде“, что Вертер в „Страданиях“, что Евгений в „Онегине“, что „я“ в „Подростке“. Есть ли в Ахилле Гомер, мы не знаем; в Энее явно проступает и сам Вергилий; Вертер – часть Гете, как Евгений Онегин – часть Пушкина; а „подросток“, хотя в повести он – „я“ (как в „Божественной Комедии“ Данте тоже – „я“), – лишь в малой степени Достоевский.
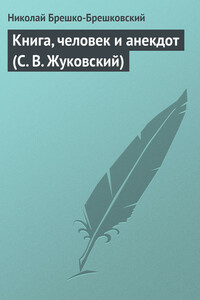
«Много писалось о том, как живут в эмиграции бывшие русские сановники, офицеры, общественные деятели, артисты, художники и писатели, но обходилась молчанием небольшая, правда, семья бывших русских дипломатов.За весьма редким исключением обставлены они материально не только не плохо, а, подчас, и совсем хорошо. Но в данном случае не на это желательно обратить внимание, а на то, что дипломаты наши, так же как и до революции, живут замкнуто, не интересуются ничем русским и предпочитают общество иностранцев – своим соотечественникам…».
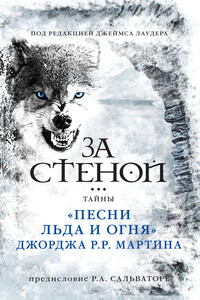
Как превратить многотомную сагу в графический роман? Почему добро и зло в «Песне льда и огня» так часто меняются местами?Какова роль приквелов в событийных поворотах саги и зачем Мартин создал Дунка и Эгга?Откуда «произошел» Тирион Ланнистер и другие герои «Песни»?На эти и многие другие вопросы отвечают знаменитые писатели и критики, горячие поклонники знаменитой саги – Р. А. САЛЬВАТОРЕ, ДЭНИЕЛ АБРАХАМ, МАЙК КОУЛ, КЭРОЛАЙН СПЕКТОР, – чьи голоса собрал под одной обложкой ДЖЕЙМС ЛАУДЕР, известный редактор и составитель сборников фантастики и фэнтези.

«Одно из литературных мнений Чехова выражено в таких словах: „Между прочим, читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе: за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его Обломов совсем не важная штука. Сам Илья Ильич, утрированная фигура, не так уже крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяи, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип – это дань не по чину. Я спрашиваю себя: если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю: ничем.
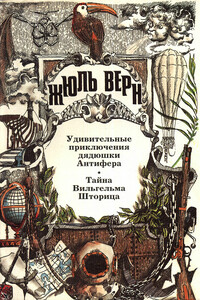
Статья А. Москвина рассказывает о произведениях Жюля Верна, составивших 21-й том 29-томного собрания сочинений: романе «Удивительные приключения дядюшки Антифера» и переработанном сыном писателя романе «Тайна Вильгельма Шторица».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.