Над любовью - [9]
— Да, мне нелегко: жениться два раза, разойтись с обеими и столько раз любить других за это время, так отдавать самого себя каждой… Как вы думаете, вот эта, для которой я делаю теперь смешную вещь, — ведь, наверное, все хохочут, — понимает ли она?
— Она молода, так много моложе вас. Молодости даже в любви не свойственны уступки и жертвы. Если она любит вас, она почувствует смысл вашего поступка, если только увлечена и неумна, не поймет. Вы простите, что я слишком просто разрешаю этот сложный для вас вопрос.
— Нет, почему? Вы имеете на это право, потому что в нем много теории-отвлеченности. Я эгоист и убежден, что это жертвоприношение, похожее на самобичевание, я сделал в большей степени для самого себя, для внутреннего оправдания…
— Тогда это понятнее, но менее романтично! Но скажите, в вашем фельетоне о пессимизме вы ее имели в виду? Меня интересует, какова же эта женщина, которая так овладела вами?
— Может быть, и ее. Не все ли вам равно? А что читаете меня, спасибо.
— Так читает, что со мной говорит целыми цитатами из ваших фельетонов, — вмешался Извольский, уже покинувший Несветскую.
Кэт подошла теперь к Несветской. Подле нее сидел молодой адвокат с женой, у которой были глаза Дузе[17]; адвокат считал себя большим эстетом и, ломаясь, говорил о балете и об отсутствии достойных критиков.
— Мне кажется, что Арсений Ильич прекрасно подошел к тем вопросам, которые вас так интересуют, — возражала Несветская. — Он уничтожил обыкновенную рецензию…
— Нет, это не то, нужны критики и рецензенты в одно и то же время, — не соглашаясь, перебил адвокат.
Кто-то играл на рояле отрывки из «Священной зари»[18]. Разговор умолк, потом перешел на музыку, на Париж.
— Пора ехать, — одновременно собрались Баратова, Андрей Андреевич и Извольский.
— Я всех довезу, я это обожаю, — болтал Извольский.
У подъезда встретились с Любовью Михайловной Розен.
— Вот досадно, что уходите, а я так затворничала все это время, что потянуло к людям и пошла к Несветской, думала всех вас повидать, не скрою.
— Мы засиделись и слишком занялись сами собой, что не принято в гостях, и ушли, чтобы не разобидеть хозяйку окончательно, — смеялся Андрей Андреевич.
— Ах, тоска там и разговоры ненужные! Жаль, что вы опоздали так, пойдем с нами, — просила Кэт.
— Не могу, к шести туда должен прийти Шауб, а после я у его матери обедаю, вот мы вместе и поедем. Хочет мне покаяться, посоветоваться: увлекся, кажется, Бетти Нильсен, — отвечала Розен.
— Не страшно; не для него это: божья коровка, — Бетти, а он может любить только ту, которая будет над ним.
— Я ведь не сказала, Кэт, что он полюбил, но ведь вы знаете, в его привычках разбираться во всех встречах. Прощайте, приходите ко мне, всех приглашаю, — и Розен вошла в подъезд.
— А вот я снова с вами еду в автомобиле, знаете, Андрей Андреевич, я себе иначе, как между телефоном и автомобилем, и не представляю Михаила Сергеевича, — заметила Кэт.
— И я тоже, и даже думаю, что если бы можно было говорить по трем телефонам сразу, то это бы ему прекрасно удалось, — отвечал Андрей Андреевич.
— Полно смеяться, друзья мои! Лучше доставьте-ка мне удовольствие: заедем посмотреть мою вторую квартиру. Мы втроем и, поэтому, Екатерина Сергеевна вне всяких подозрений.
— Что же, давайте. Хочется какой-нибудь шалости, — обрадовалась Кэт.
На одной из центральных улиц города, у подъезда старого большого дома, они остановились.
И когда пять минут спустя бродили по наполовину пустым комнатам, где голоса раздавались громче от отсутствия каких бы то ни было занавесей, портьер и ковров, всем троим вдруг стало скучно и, указывая на телефон в кабинете, Екатерина Сергеевна спросила:
— А это тоже для самоуспокоения?
— Нет, для удобства.
— Он верен себе даже тогда, когда изменяет самым патриархальным основам: сколько здесь картин, даже на полу лежат, — говорил Андрей Андреевич.
— И есть настоящие вещи, — всполошился Извольский.
— Уж не это ли настоящее? — спрашивала Кэт, указывая на висевшее полотно. — Ведь вы даже не похожи на портрете, и какая ученическая безграмотность в рисунке! Если бы вы знали, какое неприятное впечатление производит ваша квартира, Михаил Сергеевич.
— Почему? Я так люблю приезжать сюда, я отдыхаю…
— Не верю. Раскладываете на столах неразрезанные книги, расставляете на туалете неоткрытые флаконы и забегаете сюда, чтобы отдать дань несуществующему уже для вас Богу, так, по традиции. Бросьте вы все это; упрямство и только, — говорила Кэт.
— Друзья мои, я думаю, что пора ехать, а то вы рассоритесь. Предоставьте Извольскому обманывать себя, ее и другую ее. В конце концов, больше всех обманут он сам, хотя, наверное, убежден, что у него в душе:
Так ведь, кажется, сказано у поэтессы?
— Она талант! Какие умные слова!
И Извольский снова оживился и начал цитировать какие-то другие надуманные стихи.
Ехали по Невскому. На одном из углов Андрей Андреевич распрощался. Остались вдвоем.
— Люблю Андрея Андреевича, у нас есть общее.
— В чем это? — сухо спросила Кэт.
— Да вот в наших романах.

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
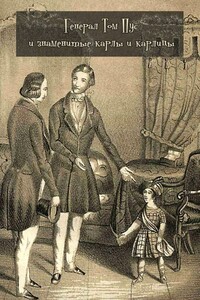
Книжечка юриста и детского писателя Ф. Н. Наливкина (1810 1868) посвящена знаменитым «маленьким людям» в истории.
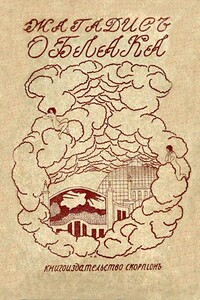
Поэма в прозе «Облака» — единственная художественная книга известного физика А. И. Бачинского (1877–1944), близкого в свое время к символистам, московская фантасмагория, напоминающая «симфонии» А. Белого.

В книгу вошел сценарий В. Шкловского «Два броневика», впервые опубликованный в 1928 г. В приложении — статья Я. Левченко о броневиках в прозе В. Шкловского.
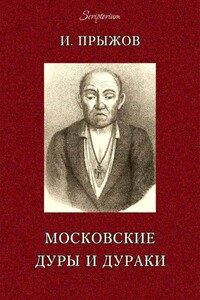
В настоящее издание вошли труды писателя, историка, этнографа и каторжника-«нечаевца» И. Г. Прыжова (1827–1885) «Житие Ивана Яковлевича, известного пророка в Москве» и «26 московских лжепророков, лжеюродивых, дур и дураков». В книгу также включен памфлет публициста Я. Горицкого «Протест Ивана Яковлевича, на господина Прыжова, за название его лжепророком», написанный от лица юродивого И. Я. Корейши.