Над любовью - [6]
— Да, милая Любовь Михайловна, именно недомолвленной, но сейчас говорят наши глаза, а они не могут скрыть. Отчего вы так угадываете мои мысли и так умеете ответить?
— Слушайте, Кэт, а что, если все это только недовольство Баратовым? Злитесь, что он хочет отшельником жить или просто его не любите?
— Нет, нет, не говорите так, не разбивайте веры в вас.
— Теперь, кажется, вы начали нервничать. Прощайте, поеду домой. А вы соберитесь ко мне поскорей, повидать вас надо, а из дома не охотница я выходить… — неожиданно оборвала Розен, уже уходя.
Усталая, обессиленная поездкой и разговором, несмотря на поздний час или, вернее, ранний — был третий час утра, — Кэт так и осталась на тахте, как была, в своем синем платье и уснула на белой медвежьей шкуре. Уткнувшись волнистой прической в ворох узорчатых подушек, успела только закрыть ноги оранжевой в розах шалью.
И спала до седьмого часа, пока не вошел приехавший с вокзала Баратов… Солнце уже будило комнату через кружево занавесей и освещало черные блестящие волосы и темные веки Кэт.
Сначала Баратов испугался, но тотчас же чувство это сменилось другим и, растроганный, сел на край белой шкуры и стал целовать руки жены.
Она вздрогнула и проснулась не сразу, но, увидев его, тотчас вскочила и не удивилась: как будто и не спала.
— Как глупо здесь спать! Спокойной ночи, устала я! — и вышла, прошла в спальню.
— Кэт, милая, погоди, я хочу тебе рассказать… погоди.
Но в ответ слышно было только, как затворилась дверь в ее комнате.
— Господи! Что это? — И Баратов присел в низенькое креслице у окна.
В висках еще стучал грохот поезда, голова болела от вагонной пыли, а мысли о жене сменяли одна другую с тягостной быстротой… Так всегда: только холод в ответ на любовь… О, как бы наслаждался он, если бы еще существовали терема… Вздор, он любит ее жизненность и водоворот, в котором она кружится. И ее ум гибкий, властный.
И даже, когда она гуляет одна в сумерки… И ее зеленое платье… Нет, не может он выносить сознания, что она с чужими, что и их радует и веселит, что они целуют ей руки, а что, если и губы?
— А если и она целует? А ему не отвечает?
— Пусть сидит всегда дома, пусть выходит только с ним. Он сошел с ума… Ведь Домострой был давно, прежде. Надо поговорить с Кэт. Пусть скажет: разлюбила или любит другого.
— Нет, ни за что; лучше томиться неведением, чем услышать от нее: не люблю!..
— Ведь она его жена? А почему Извольский… нет, не то. Разные они люди с ней, но почему же она так владеет им? Без нее жизнь не может быть прекрасной…
— С приездом, барин! Я и не слыхала, как вы вернулись, — говорила горничная, вошедшая прибирать комнату.
Баратов встал.
— Что? да я только что приехал и сейчас опять уеду, съезжу к старому барину. Когда Екатерина Сергеевна встанет, скажите, что я вернулся и поехал к отцу; скоро буду дома.
Глава IV
В большом и пустынном, несмотря на наполнявшую его публику, зале, более похожем на операционную в больнице, чем на зал для лекций, был перерыв до время доклада приезжего итальянского поэта — апостола футуризма[6], как славил себя он сам и ему подобные люди, ищущие новшества в несуществующем, но долженствующем существовать по их, если не убеждению, то, во всяком случае, мнению и заявлению.
И собрались послушать его в большинстве те, для которых также отождествлялись понятия: мнение, заявление и убеждение.
И чувствовалась здесь неспаянность слушателей не только с лектором, но и между собой. И не могли шум и внешнее оживление, замечавшиеся и в коридоре и в какой-то другой комнате, тоже большой и непонятно для чего предназначавшейся, не могли они создать определенной картины или подобия лекции, или вообще чего-то близкого к литературе. Не было даже скуки, похожей на ту, которая бывает на научных докладах. Была какая-то ярмарка мысли. По крайней мере, здесь, где, прислонившись к большому столу, стоял герой вечера и на французском или итальянском языке «эпатировал» (как это уже и до него завели в Петербурге футуристы): выкрикивал слова, громкие, как и его голос, и победоносно взирал на толпившихся. Вокруг него стояли группами молодые поэты — почти мальчики, просто поэты, футуро-поэты и эго-футуристы, начинающие художники и «всёки» и еще всякие, словом, все те, которых создал литературный развал последних десяти лет. Старались и они сказать последнее слово, не отстать от заезжего учителя, и показывали какие-то арабески, нацарапанные разноцветными чернилами, по всей вероятности, за пятнадцать минут до лекции, показывали, как последнее творение «гениального такого-то», не зная цены и смысла слов…
Несомненно было, что и сам лектор так же скоропалителен был в своей беседе, как и в побуждениях и изречениях, состоявших только из тех слов, которые их грамматически составляли. И еще несомненнее было то, что здесь, в кучке людей, составлявшей если не весь Петербург, то значительную часть представителей литературы и искусства, был тот же распад и неловкость за свое любопытство. Все они, наверное, выйдя из зала и встретив на улице знакомых, на вопрос: интересно ли было? ответят: а, ерунда!
Во всех глазах зрителей (слушателей уже не было), читался скрытый или смешанный с притворным или искренним удивлением смех и только немолодой худой художник, неоднократно сам читавший лекции об «Inventa Nova»

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.
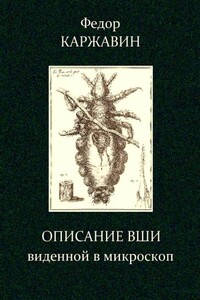
В издании воспроизведена книжка загадочного литератора, просветителя, вольнодумца и авантюриста Ф. В. Каржавина «Описание вши» (1789), известная как одна из величайших русских библиографических редкостей.
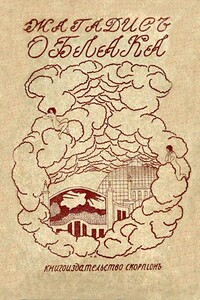
Поэма в прозе «Облака» — единственная художественная книга известного физика А. И. Бачинского (1877–1944), близкого в свое время к символистам, московская фантасмагория, напоминающая «симфонии» А. Белого.

В книгу вошел сценарий В. Шкловского «Два броневика», впервые опубликованный в 1928 г. В приложении — статья Я. Левченко о броневиках в прозе В. Шкловского.
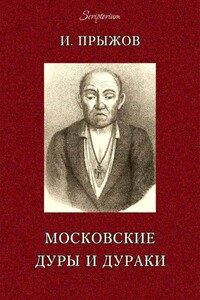
В настоящее издание вошли труды писателя, историка, этнографа и каторжника-«нечаевца» И. Г. Прыжова (1827–1885) «Житие Ивана Яковлевича, известного пророка в Москве» и «26 московских лжепророков, лжеюродивых, дур и дураков». В книгу также включен памфлет публициста Я. Горицкого «Протест Ивана Яковлевича, на господина Прыжова, за название его лжепророком», написанный от лица юродивого И. Я. Корейши.