Над бурей поднятый маяк - [63]
— А я помню все.
Кит не вмешивался, не торопил, но и не останавливал — никто не причиняет нам столько боли, сколько мы сами. Сам себя ты можешь разрушить, разобрать по камню, любовь моя, разворотить, как пашню, оставив одну лишь пустоту. Никто не заберет тебя силой, если ты не отдашься сам.
Остальное — иллюзии и обман, заблуждения и оболванивание. Так верят в существование там, высоко, в облаках, над облаками, кого-то, кто управляет нашими судьбами — а я не вижу ничего, кроме темноты, и над головой моей крыша, и не видать облаков… И судьба моя — ты, и ты — в моих руках.
— Я помню все, — повторил Кит отчетливей, и хрипло, жарко выдохнул, прижавшись приоткрытым ртом к месту, где билось предложенное ему сердце. Было скользко и жестко одновременно — а еще горячо, словно Уилл был плошкой, наполненной горючим, а он сам — протянутым внутрь подожженным фитилем. — Все, что делал, чтобы забыть тебя поскорее. Как это смешно сейчас… Ведь всего, о чем говоришь ты, могло и не быть вовсе. Что, если Кемп это просто выдумал, чтобы уязвить меня и мою гордыню?..
Ведь я горд, любовь моя, жизнь моя, моя бумага, по которой я веду пером, ножны с моей сталью, сталь с моей кровью, Уилл, Орфей. Я помышляю о высочайших из сфер из грязнейших болот греха, и убеждаю себя в том, что греха нет, ничего нет, и ничего не имеет смысла, кроме слов и дерзости. И я знаю наверняка: это темно и страшно, прежде всего — для таких, как ты, когда вам говорят: что дозволено Юпитеру, за то быка отводят на бойню.
Бык — лишь часть кровавой гекатомбы, если, конечно, он не присмотрел себе какую-нибудь податливую Европу.
— Мы поступали одинаково, но у меня в жилах закипало, стоило мне только представить, только подумать сквозь пьяный бред о том, как ты… — говорить было все сложнее, но Кит не был бы собой, если бы это его остановило. И он не останавливался — качнувшись навстречу, вверх, взяв Уилла за пояс, ощутив упершиеся в запястья косточки, толкнув его вниз, он уже ни на миг не замирал — ни телом, ни разумом. — О том, как ты можешь получать удовольствие — без меня, не со мной… Как можешь называть кого-то по имени, кончая… Как можешь… О, я гордый ублюдок, таких как я, в старину сбрасывали с Тарпейской скалы, а то и с небес…
Кит откинулся на спину, разомкнув объятие. Потерял руки Уилла, и нашел новую вспышку тысячи ненаступивших рассветов под веками. Его выгнуло — невольно, раньше, чем он успел подумать. Губы обметало саднящими трещинами — а он продолжал облизываться, пытаясь найти следы невозможных пока поцелуев.
И говорил.
Говорил, говорил, говорил.
— И даже сейчас… Когда ты со мной… Когда я — в тебе… Я представляю тебя с этими азиатскими кобылками — о, лучше бы они опоили тебя, лучше бы дали тебе по дурной башке, связали и заставили…
Его разбирало от наслаждения обладать — и смеха. Он касался скомканной, влажной от пота простыни — подчас лишь поясницей, лопатками и затылком. Он снова нашел руки Уилла, его поясницу, его ягодицы, его спину.
Его ритм — слишком медленный.
Это было необходимо исправить — в приступе веселого ожесточения.
— А ну быстрее, сукин ты сын, — резко приказал Кит, и с силой хлестнул Уилла ладонью по бедру. — Старайся что есть мочи… Ты заслужил, чтобы почувствовать себя на месте тех девчонок… И чтобы слушать дальше.
Кит больше не жалел того, кого любил так, что едва не потерял себя в вихрях купленных за деньги тел. Не позволяя отклониться, соскочить, приостановиться, он держал Уилла за спину железной хваткой — и оставлял на его коже следы, делился памятью щедро, со всей оголтелой щедростью откровения.
— Ты еще не дошел до логова своих утешительниц… — признался он, и больно, безжалостно, наверняка — до кровоподтека цвета лучших роз и лучших закатов, укусил Уилла в плечо. — А я уже наказал нашему знакомому графчику отсосать у меня так, как ему и хотелось все это время…
Что ж, Уилл просил о боли — и получил ее сполна.
Боль вышибала слезы из глаз, или все же слова Кита? А может быть то, что приходило на смену боли?
Уилл следовал рукам — держащим его жестко, железно, насаживался раз за разом на горячий, железный ствол, чувствуя, как растекался жар по телу, и от этого жара немели и пересыхали губы, а мысли путались, разбегались по углам.
Ты делал, чтобы забыть, я делал, чтобы вспомнить, чтобы не забывать никогда, пусть это «никогда» казалось мне худшим из ночных кошмаров, когда хочешь проснуться, и не можешь, и все-таки проснувшись, обнаруживаешь себя в прежнем сне. В этом вся разница, Кит мой, мой Меркурий, текучая, утекающая из рук ртуть: в том, что ты убегаешь, а другим не дано тебя ни догнать, ни задержать. Ни легиону твоих наемных любовников, за полпенни готовых пойти за тобой куда угодно, ни Томасу Уолсингему, возомнившему, что он имеет право распоряжаться тобой, будто ты один из его слуг, ни Бобби Грину, даже в пьяном бреду не забывающему о тебе. Ни Киду, ни Аллену, ни любому из тех, кто у тебя был и, возможно, будет. Ни тому мальчишке, щенку, считающему себя графом, графу, низвергнутому до уровня продажных молли.
Ни мне.
Хотя ты и ревнуешь, думая, что я могу от тебя уйти. А разве это возможно? Разве можно бежать от вышедшей из берегов ртутной реки? Разве можно запретить себе дышать?
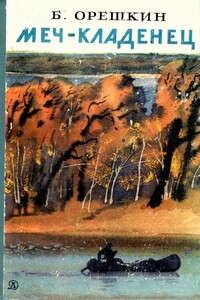
Повесть рассказывает о том, как жили в Восточной Европе в бронзовом веке (VI–V вв. до н. э.). Для детей среднего школьного возраста.

К концу переезда погода значительно испортилась. Ветер завывал в вантах; море стало бурным, корабль трещал, с трудом пробираясь среди седых бурных волн. Выкрики лотового почти не прекращались, так как мы всё время шли между песчаных отмелей. Около девяти утра я при свете зимнего солнца, выглянувшего после шквала с градом, впервые увидел Голландию -- длинные ряды мельниц с вертящимися по ветру крыльями. Я в первый раз видел эти древние оригинальные сооружения, вселявшие в меня сознание того, что я наконец путешествую за границей и снова вижу новый мир и новую жизнь.
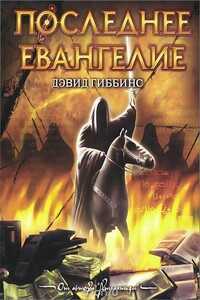
Евангелие от Христа. Манускрипт, который сам Учитель передал императору Клавдию, инсценировавшему собственное отравление и добровольно устранившемуся от власти. Текст, кардинальным образом отличающийся от остальных Евангелий… Древняя еретическая легенда? Или подлинный документ, способный в корне изменить представления о возникновении христианства? Археолог Джек Ховард уверен: Евангелие от Христа существует. Более того, он обладает информацией, способной привести его к загадочной рукописи. Однако по пятам за Джеком и его коллегой Костасом следуют люди из таинственной организации, созданной еще святым Павлом для борьбы с ересью.

Андрей Петрович по просьбе своего учителя, профессора-историка Богданóвича Г.Н., приезжает в его родовое «гнездо», усадьбу в Ленинградской области, где теперь краеведческий музей. Ему предстоит познакомиться с последними научными записками учителя, в которых тот увязывает библейскую легенду об апостоле Павле и змее с тайной крушения Византии. В семье Богданóвичей уже более двухсот лет хранится часть древнего Пергамента с сакральным, мистическим смыслом. Хранится и другой документ, оставленный предком профессора, моряком из флотилии Ушакова времён императора Павла I.
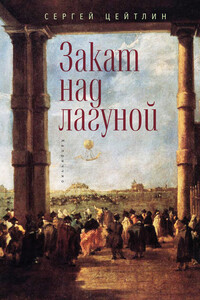
Путешествие графов дю Нор (Северных) в Венецию в 1782 году и празднования, устроенные в их честь – исторический факт. Этот эпизод встречается во всех книгах по венецианской истории.Джакомо Казанова жил в то время в Венеции. Доносы, адресованные им инквизиторам, сегодня хранятся в венецианском государственном архиве. Его быт и состояние того периода представлены в письмах, написанных ему его последней венецианской спутницей Франческой Бускини после его второго изгнания (письма опубликованы).Известно также, что Казанова побывал в России в 1765 году и познакомился с юным цесаревичем в Санкт-Петербурге (этот эпизод описан в его мемуарах «История моей жизни»)
