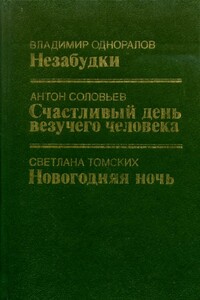Начало - [18]
— Так, покататься, — осторожно говорю я. — День сегодня видишь какой чудесный.
— С ребятами поедешь?
— Нет, только Витька возьму. Цветов из леса привезем… Уроки я сделал, в саду поработал, не мешало бы развеяться немного в порядке вознаграждения.
— Ну, хорошо, — соглашается отец. — Машину получишь… заслужил.
Я с радостью вонзаю лопату в землю и, как пушинку, переворачиваю поднятый пласт. Работаю какое-то время с такой страстью, что наседаю отцу на пятки. Отец одобрительно, с удовольствием кряхтит, видя мое усердие, и старается сохранить необходимое между нами расстояние.
После нас в саду остается широкая черная полоса вскопанной земли. Какая она черная, рыхлая и приподнявшаяся, ставшая выше в сравнении со всей остальной нетронутой землей! И легкий, почти незаметный парок струится над ней, словно она дышит. Освобожденно и сладостно дышит. Это мы с отцом дали ей возможность дышать, вбирать в себя солнечное тепло, и она, мне кажется, благодарна нам за это, а вся остальная, невскопанная земля в саду завидует ей и ждет, когда мы и к ней прикоснемся своими лопатами. Я словно ощущаю это ее нетерпеливое ожидание, и потому вместе с радостью окончания работы во мне возникает запоздалое сожаление, что не все сделано, что мы могли бы увеличить сделанное, если бы побольше приложили сил и заботы. Хорошо, что такие мысли только после работы приходят!
Из своего сада меня окликает Куличков (отец в это время понес лопаты в теплицу, тщательно очистив их одна о другую). Я подхожу к изгороди. Худое птичье лицо Куличкова растеряно, в тихих блеклых глазах бесконечная покорность.
— Что-нибудь случилось, Павел Борисович? — спрашиваю я.
— Нет, ничего… пустяки, — произносит Куличков. — Мне стыдно отвлекать тебя… стыдно говорить… но я не могу войти к себе в дом. Не могу открыть замок… Помоги, пожалуйста.
Я не знаю, хохотать мне или заплакать вместе с Куличковым. Таков этот человек, нескладный, неумелый, неспособный оказать даже малейшее противодействие любой возникшей перед ним трудности.
— Ну, это не самое главное в жизни — замок, — говорю я, перепрыгивая через изгородь. — Давайте ключ.
Мы идем с Куличковым по его одичавшему саду, входим во двор с развалившимся сараем и остатками каких-то трудно определимых построек, в которых в незапамятные времена родители Павла Борисовича, когда были живы, держали скотину и птицу, без которых дом на земле — мертвый дом.
Замок на двери запертого дома давно уже сработался, и ключ провертывается в нем. Я осторожно, терпеливо нащупываю стершуюся, уменьшившуюся «собачку», нажимаю на нее, и дужка замка отпадает.
— Вот и все, — говорю я.
— Как же так? — недоуменно, обрадованно говорит Куличков. — Почему же у меня ничего не получалось? Я пожимаю плечами.
— Купите новый замок. Иначе однажды вам во дворе ночевать придется.
— Да, надо купить, — горячо поддерживает мое предложение Куличков, но я знаю, что он забудет о моем совете и вспомнит его только тогда, когда в очередной раз не сможет открыть дверь.
— Заходи в дом, — приглашает он меня. — Чаем угощу. У меня есть настоящий… цейлонский. Из Москвы прислали. Картины посмотришь… если захочешь.
Достоинства чая, пусть даже цейлонского, для меня — пустой звук, но предложение посмотреть картины вызывает поистине жадное нетерпение, которое я с трудом скрываю от Куличкова. Дело в том, что об увлечении Куличкова живописью знают буквально все на Горке (часто его можно увидеть в саду у мольберта), но никто не может похвастаться, что ему удалось увидеть хотя бы одну его картину, кроме тети Груни, которая на правах соседки иногда посещает Куличкова — справиться о его здоровье, узнать, не нуждается ли в чем. Но тетя Груня не в счет — для нее единственной мерой оценки работы художника служит вековое дремучее, непоколебимое — «похоже» или «непохоже». На мои расспросы о Куличкове и его живописи она обычно отмахивается с неудовольствием: «Мажет что-то там… а что — не понять».
Таинственная скрытность Куличкова (он никого и никогда не приглашает в свой дом) объясняется, должно быть, его чрезмерной ранимостью, беззащитностью перед мнением праздного обывателя, способного осмеять, втоптать в грязь самое святое для человека увлечение вовсе не по причине озлобленности или антисимпатии, а всего лишь руководствуясь инстинктом стандартности, боящейся всякой слишком ярко выраженной личности — делай как все, не высовывайся перед другими, если не хочешь беды.
Впрочем, все это — мои домыслы, и, возможно, они столь же далеки от истины, как и всякое предположение, возведенное на пустом месте.
Вслед за Куличковым я прохожу сквозь темные сени и оказываюсь в просторной однокомнатной избе с голландской круглой печью посередине, подпирающей потолок, как колонна, и нештукатуренными бревенчатыми стенами с развешанными на них картинами.
Обстановка в комнате спартанская: шкаф с книгами, вешалка, где до сих пор висят зимнее пальто и старенькая меховая шапка хозяина, кровать, застеленная байковым одеялом, стол возле передней стены и мольберт у одного из окон.
— Проходи, — говорит Куличков. — А я приготовлю чай.
Картин в комнате так много, что какое-то время я не в состоянии сосредоточиться и перевожу глаза с одного полотна на другое. Впрочем, так продолжается недолго. Я вскоре увлекаюсь и ничего уже не вижу вокруг себя, кроме того, что мне предлагает увидеть художник.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
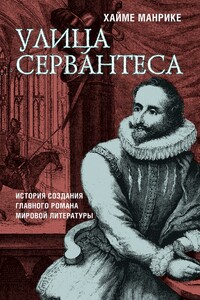
«Улица Сервантеса» – художественная реконструкция наполненной удивительными событиями жизни Мигеля де Сервантеса Сааведра, история создания великого романа о Рыцаре Печального Образа, а также разгадка тайны появления фальшивого «Дон Кихота»…Молодой Мигель серьезно ранит соперника во время карточной ссоры, бежит из Мадрида и скрывается от властей, странствуя с бродячей театральной труппой. Позже идет служить в армию и отличается в сражении с турками под Лепанто, получив ранение, навсегда лишившее движения его левую руку.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Это история о матери и ее дочке Анжелике. Две потерянные души, два одиночества. Мама в поисках счастья и любви, в бесконечном страхе за свою дочь. Она не замечает, как ломает Анжелику, как сильно маленькая девочка перенимает мамины страхи и вбирает их в себя. Чтобы в дальнейшем повторить мамину судьбу, отчаянно борясь с одиночеством и тревогой.Мама – обычная женщина, та, что пытается одна воспитывать дочь, та, что отчаянно цепляется за мужчин, с которыми сталкивает ее судьба.Анжелика – маленькая девочка, которой так не хватает любви и ласки.

Сборник стихотворений и малой прозы «Вдохновение» – ежемесячное издание, выходящее в 2017 году.«Вдохновение» объединяет прозаиков и поэтов со всей России и стран ближнего зарубежья. Любовная и философская лирика, фэнтези и автобиографические рассказы, поэмы и байки – таков примерный и далеко не полный список жанров, представленных на страницах этих книг.Во второй выпуск вошли произведения 19 авторов, каждый из которых оригинален и по-своему интересен, и всех их объединяет вдохновение.
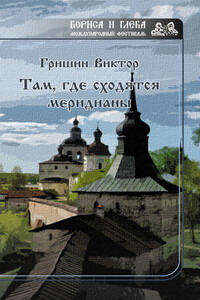
Какова роль Веры для человека и человечества? Какова роль Памяти? В Российском государстве всегда остро стоял этот вопрос. Не просто так люди выбирают пути добродетели и смирения – ведь что-то нужно положить на чашу весов, по которым будут судить весь род людской. Государство и сильные его всегда должны помнить, что мир держится на плечах обычных людей, и пока жива Память, пока живо Добро – не сломить нас.

Оренбуржец Владимир Шабанов и Сергей Поляков из Верхнего Уфалея — молодые южноуральские прозаики — рассказывают о жизни, труде и духовных поисках нашего современника.

Оренбуржец Владимир Шабанов и Сергей Поляков из Верхнего Уфалея — молодые южноуральские прозаики — рассказывают о жизни, труде и духовных поисках нашего современника.

Повести и рассказы молодых писателей Южного Урала, объединенные темой преемственности поколений и исторической ответственности за судьбу Родины.