На золотом крыльце сидели - [46]
И так греемся этой игрой: он разыгрывает красивое страдание неразделенной любви (ведь я в п о л н е замужем), а я непонимание — и оба в безопасности.
Сели мы с ним в холле, он закурил.
— Ой, Лева, я еще один феномен памяти вспомнила, — затараторила я. — Мне еще снилось все время отцовское поле боя и как меня ранило — слушай! Будто бы изрытая взрывами долина, а я на какой-то возвышенности. Все гремит и грохочет. И вот, будто летит пуля — летит так, что я вижу ее траекторию...
Славиков меня не слушал. Я замолчала, а он даже не заметил, сосредоточенно готовясь что-то сказать. Он курит, отражается в стенных зеркалах и пьяно зыблется; ходят мимо выпившие едоки, из ресторана и назад, и швейцар, злясь, закрывает за ними дверь.
— Что? — рассеянно спохватывается Славиков.
— Нет, ничего.
Я не обиделась — ведь мы чужие.
Я тупо смотрю на швейцара, а Славиков, силясь придать словам внутреннюю напряженность, отрывисто и с паузами говорит, что у него есть теперь квартира, правда, не здесь, а в Заполярье, ему дает эту квартиру Ректор, и не хочу ли я поехать туда с ним?
Я понимаю, Славикову хочется игры по крупной, да и когда же еще, ведь уже сорок, а все нет бурной — на разрыв аорты — жизни, есть только надоевшая семья, а Ректор сейчас за столом только что авторитетно изрек: «Любовь — болезнь сорокалетних».
— Нет, не хочу! — отвечаю я с кокетливым капризом и мотаю головой, как семнадцатилетняя девочка.
В дверь дует, швейцар сердито ее закрывает и с ненавистью смотрит на меня, как я фальшиво смеюсь в уплату за жратву и вино. Ох и перевидел он здесь таких дамочек! Мне хочется подойти к нему и оправдаться: я не такая, я здесь случайно, я больше не буду.
Дуть перестало, а я поеживаюсь и все оглядываюсь на здоровенные окна, занавешенные прозрачным тюлем; окна на улицу, и мне кажется: вот сейчас там будет проходить Мишка и увидит меня здесь — такую, какую видит швейцар...
— Скажи, что х о ч е ш ь! — насупленно требует Славиков.
И правильно: он платит, он и заказывает музыку. А я как можно шутливее возмущаюсь:
— Как я скажу хочу, если я не хочу!
— Скажи! — капризничает пьяный Славиков.
Я затравленно оглядываюсь на окна. Как сказал бы Мишка, знает кошка, чье мясо съела.
Я к Мишке хочу! А уйти не могу. Уйти — это поступок, а я существо слабое, беспоступочное.
Славиков, не дождавшись ответа, забыл, о чем это мы говорили, нетвердо задавил окурок, и мы вернулись в ресторан, к нашим друзьям.
Тут все было в дыму. Вечер подходил к концу, все опьянели и курили уже не сходя с места.
Шура смотрела нам навстречу с облегчением и с упреком: мол, ну что вы так долго!.. Видимо, ей приходилось плохо. Ректор сладко жмурился и в перерывах между затяжками назойливо улыбался, глядя на нее. Она не знала, что ей с этими улыбками делать. Оглянется по сторонам, вздохнет и робко говорит ему: «Ты поешь! Ну почему ты все куришь, куришь и ничего не ешь!» И опять оглядывается.
Славиков прилипающим языком лопочет Ректору: «А помнишь, после третьего курса... Крым... зайцами на третьей полке. Берег... горы зеленые... и я тогда понял...»
И вдруг растерянно сказал:
— Лиля! Я его очень люблю! — и кивнул на Ректора с беспомощным недоумением.
Шура сердобольно заморгала, а Ректор все так же стойко улыбался, и мне пришло в голову, что перед нами муляж улыбающегося Ректора, а сам он в это время где-то спит, свернувшись калачиком. Но тут он пошевелился и сказал:
— Товарищи! — Он прислушался к своему голосу, подбавил в тон проникновенности и повторил: — Товарищи! Выпьем за нашу встречу!
Говорящий муляж.
Они все трое схватились за свои бокалы, счастливые, что нашлось общее дело, а я с радостным выражением хамства на лице спросила Ректора:
— Скажите, вы не муляж? Знаете, делают такие из папье-маше для витрин яблоки, груши, мясо. На вид — как настоящие. А на ощупь — можно я вас потрогаю?
Славиков, пьяный пьяный, а задохнулся. Шура заморгала и отвернулась от меня. Но Ректор не обиделся, а учтиво кивнул и протянул мне руку — для ощупывания. Я потрогала руку, озадачилась, как повар, пробующий суп, и поднесла эту руку, как мосол какой-нибудь, к своему носу: понюхать. Шура предостерегающе смотрела на меня, стараясь как-нибудь взглядом натянуть вожжи и остановить меня. Куда там! Меня ее взгляд только подхлестнул. Не выпуская руки Ректора, я придвинулась к нему и вкрадчиво, как врач, попросила:
— Скажите: ма-ма!
И с ожиданием уставилась на его рот.
Ректор мягко высвободил руку, с ласковым укором улыбнулся мне и опять предложил свой тост.
Все в смятении выпили, на меня никто не глядел, а я, в возмещение своего стыда, мстительно подумала: «Шура потому и боится его, что он ей не нравится. Надо сказать, что он ей не нравится».
Славиков окончательно опьянел, чтобы не разделять ответственности за произведенный мной скандал, и рухнул лицом на стол. К счастью, это всех отвлекло: захлопотали, Шура вылила ему на голову стакан воды и вытерла своим носовым платком. Ректор рассчитывался с официанткой крупными купюрами, и я сперва подумала: слава богу, что не за Славикова счет я тут сегодня гуляла, а потом сообразила, что, пожалуй, еще больше свинства, если за счет Ректора... Хоть вынимай деньги да выкладывай за себя.
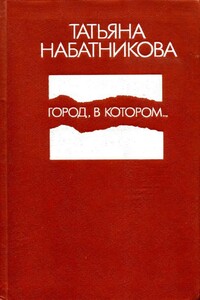
В новую книгу молодой уральской писательницы вошли роман «Каждый охотник», повесть «Инкогнито» и рассказы — произведения, в которых автор в яркой художественной форме стремится осмыслить самые различные стороны непростого сегодняшнего бытия.

Вы можете представить себе женщину, которая празднует день рождения любимой кошки? Скорее всего ей около сорока лет, в жизни она неплохо устроена, даже успешна. Как правило, разведена — следовательно, абсолютно свободна в своих поступках и решениях. Подруги ей в чем-то завидуют, но при случае могут и посочувствовать, и позлословить — ведь безусловные преимущества свободы в любой момент грозят перейти в свою противоположность… Где проходит эта «граница» и в чем состоит тайна гармонии жизни — вот проблемы, которые Татьяна Набатникова поднимает в своих рассказах с деликатностью психолога и дотошностью инженера, исследующего тонкий механизм.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли лучшие произведения Б. Лавренева — рассказы и публицистика. Острый сюжет, самобытные героические характеры, рожденные революционной эпохой, предельная искренность и чистота отличают творчество замечательного советского писателя. Книга снабжена предисловием известного критика Е. Д. Суркова.
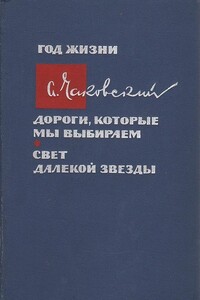
Пафос современности, воспроизведение творческого духа эпохи, острая постановка морально-этических проблем — таковы отличительные черты произведений Александра Чаковского — повести «Год жизни» и романа «Дороги, которые мы выбираем».Автор рассказывает о советских людях, мобилизующих все силы для выполнения исторических решений XX и XXI съездов КПСС.Главный герой произведений — молодой инженер-туннельщик Андрей Арефьев — располагает к себе читателя своей твердостью, принципиальностью, критическим, подчас придирчивым отношением к своим поступкам.

В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ю. Шесталова пошли широко известные повести «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка», «Тайна Сорни-най».Художнический почерк писателя своеобразен: проза то переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; древнее сказание соседствует с публицистически страстным монологом. С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей современностью.

«Старый Кенжеке держался как глава большого рода, созвавший на пир сотни людей. И не дымный зал гостиницы «Москва» был перед ним, а просторная долина, заполненная всадниками на быстрых скакунах, девушками в длинных, до пят, розовых платьях, женщинами в белоснежных головных уборах…».
