На золотом крыльце сидели - [28]
Подравшиеся наши, порезавшиеся пассажиры лежат у меня порознь: один в изоляторе, другой — в двухкоечном лазарете. Чтоб не схватились еще раз.
— А чего он! — жалуются мне друг на друга.
Перевязываю. Подолгу отмачиваю повязки в фурацилине. Чтоб не больно им, собакам.
Очень разные. Коля все время виновато и просяще улыбается. Он в этой драке потерпевший. Сначала я боялась исповедей. Исповеди — мое бедствие. Стоит нацепить фонендоскоп и прислушаться к сердцебиению и дыханию, как тут же эта внимательность прочитывается в универсальном смысле — и человек принимается рассказывать мне всю свою жизнь.
К счастью, Коля не мог связать больше двух слов, на третьем только руками поводил. А второй, Гапирсон, — гордый. Не исповедуется и ничего ни у кого не спрашивает: сам знает.
Но по два словечка Коля все же рассказал. Естественно, сидел. Естественно, не раз. И, конечно же, любовь (вот она уже где у меня!). Вышел из тюрьмы — взял одну, стал жить, а к ней прежний освободился. «Ну, так он или я?» — «Не знаю». — «Ну, тебе хорошо с ним?» — «Не знаю». — «Может, тебе с ним плохо?» — «Может. Не знаю». — «Так как же будем?» — Пожимание плеч. И — ничего не понимают, что с ними происходит, и оттого равнодушны к своей участи. На собственную жизнь глядят, как в кино.
А до тюрьмы у него была другая, но Коля ее забыл — не от плохого отношения, а по недостатку памяти: просидел три года и за этот срок нечаянно забыл. Она, скорее всего, не заметила этого.
На нашей деревянной улице жила такая. Родила одного, другого, а третьего оставила в роддоме. Решила, видимо, что это несправедливо и невыгодно — кормить троих. Ходит, и лицо ее ничего не выражает: ничего не берет из мира и ничего ему не отдает. Взгляд как прахом присыпан. Ее старая мать на расспросы соседок отмахивается: «А, я не знаю!» И, правда, не знает. И знать не старается. Едят, спят — ну, значит, и живут, чего еще?
Коля такой же — с сонным взглядом без памяти. Сон жизни.
И оставленный тот ребенок вырастет тоже без памяти, с таким же сонным взглядом. Ему не будет больно. Жизнь их заранее анестезирует.
Впрочем, бог даст, его взяли какие-нибудь бездетные супруги. И бог даст чужой женщине терпения и сил, как он дает их родившей матери вместе с молоком для кормления.
Даст, бог все даст.
Коля ждет от меня ответа на его корявые исповеди. Я должна как-то о т н е с т и с ь к этому всему. Но как?
Поменяй, Коля, жизнь? Иди, Коля, пахать на великую стройку? Какая там стройка, он весь податливый, нетвердый, как пластилин, приминается, куда ни нажми, от одного взгляда приминается, слабый, пьющий и обреченный быть тем, что он есть. Не вырваться ему из круга судьбы. Иди, Коля, воруй дальше? Воруй-садись, воруй-садись, такая твоя планида?
Я прячусь в конкретность забот: приготовить раствор, перевязочные материалы... Некогда мне думать за них...
Отмалчиваться — позорно. Пожалеть — дешево. Помочь? — разве в силах один человек помочь другому: каждый в кольце своей отдельной судьбы. Я могу прооперировать его и спасти от смерти. От жизни мне его не спасти. Что же остается? Иди, товарищ, иди и делай дальше свое паразитское дело, справляй работу страха, а меня оставь в моем благополучии мирно зашивать ваши порезы, лечить ангины и травить тараканов на судне — так?
Не знаю. Не знаю. Отвернусь от Коли, лишь бы в лицо не смотреть, лишь бы толково прилаживать повязку, чтобы остаться довольной сделанным делом и, может быть, сохранить этим необходимое самой к себе уважение.
Куда легче с Гапирсоном. («Это ваша фамилия?» — «Неважно. Пишите: Гапирсон», — надменно.) Коля, видимо, и прилепился к нему, чтоб кто-то з н а л за него. «Работали» вместе. Подрались, порезались. Спрашиваю у пассажирского помощника: «Будем их на берегу милиции сдавать?» — «Да пошли они! Пусть расправляются между собой сами. Милиции меньше работы».
Гапирсона я еще раньше заметила, до того, как он стал моим пациентом. На палубе. Шезлонги, солнечно. Молодая пассажирка читает, жмурясь от света. Доски палубы с аккуратными кружочками шпонок нагрелись, ветер не касается их. Хорошо перегнуться через борт и погрузить взгляд в бег воды за бортом — так усталые ноги опускают для облегчения в воду.
— Девушка, я вот смотрю, такое солнце, у меня глаза забило, а вы читаете. Что это вы читаете? Учебник истории, что ли? В институт, что ли, поступать собрались?
Девушка терпеливо ответила:
— Вы мне мешаете.
— Девушка, дочитать можно в каюте. Дайте-ка, я проверю свою память, — потянул книгу на себя, девушка не уступила, суше и строже повторила:
— Вы мне действительно мешаете!
А он даже хорош собой: какая-то примесь азиатской крови, и злоба азиатская вскипела.
— Ах-ты стер-ва, — как из тугого тюбика выдавил. Пора подойти и обозначить свое отношение, но я медлю. Совершиться преступлению или нет, я знаю, зависит и от поведения жертвы. — Ах ты, коза недоученная! Дура неграмотная, — он стоял рядом и нанизывал ругательства на свою тишайшую ярость.
Девушка не встала, не ушла, не вспыхнула, она выбрала правильное оружие — спокойствие.
— Дура, хочешь показать, что грамотная, читаешь на палубе, чтоб все видели. В каюте у тебя места нет, да? Мне смешно.
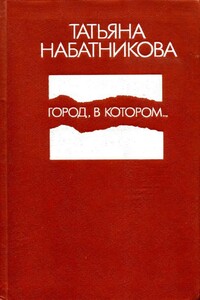
В новую книгу молодой уральской писательницы вошли роман «Каждый охотник», повесть «Инкогнито» и рассказы — произведения, в которых автор в яркой художественной форме стремится осмыслить самые различные стороны непростого сегодняшнего бытия.

Вы можете представить себе женщину, которая празднует день рождения любимой кошки? Скорее всего ей около сорока лет, в жизни она неплохо устроена, даже успешна. Как правило, разведена — следовательно, абсолютно свободна в своих поступках и решениях. Подруги ей в чем-то завидуют, но при случае могут и посочувствовать, и позлословить — ведь безусловные преимущества свободы в любой момент грозят перейти в свою противоположность… Где проходит эта «граница» и в чем состоит тайна гармонии жизни — вот проблемы, которые Татьяна Набатникова поднимает в своих рассказах с деликатностью психолога и дотошностью инженера, исследующего тонкий механизм.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли лучшие произведения Б. Лавренева — рассказы и публицистика. Острый сюжет, самобытные героические характеры, рожденные революционной эпохой, предельная искренность и чистота отличают творчество замечательного советского писателя. Книга снабжена предисловием известного критика Е. Д. Суркова.
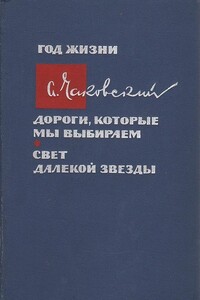
Пафос современности, воспроизведение творческого духа эпохи, острая постановка морально-этических проблем — таковы отличительные черты произведений Александра Чаковского — повести «Год жизни» и романа «Дороги, которые мы выбираем».Автор рассказывает о советских людях, мобилизующих все силы для выполнения исторических решений XX и XXI съездов КПСС.Главный герой произведений — молодой инженер-туннельщик Андрей Арефьев — располагает к себе читателя своей твердостью, принципиальностью, критическим, подчас придирчивым отношением к своим поступкам.

В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ю. Шесталова пошли широко известные повести «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка», «Тайна Сорни-най».Художнический почерк писателя своеобразен: проза то переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; древнее сказание соседствует с публицистически страстным монологом. С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей современностью.

«Старый Кенжеке держался как глава большого рода, созвавший на пир сотни людей. И не дымный зал гостиницы «Москва» был перед ним, а просторная долина, заполненная всадниками на быстрых скакунах, девушками в длинных, до пят, розовых платьях, женщинами в белоснежных головных уборах…».
