На волка слава… - [13]
А что, собственно, рассказывать? Что можно было добавить к тому, что я уже сказал?
— Ну, большой, круглый. Розовый.
— Это чтобы у меня сохранилось в голове и чтобы я мог об этом думать, — объяснял он.
Ну а я о таких вещах совсем не думал. Позднее, в течение какого-то времени, мне даже казалось, что я, наверное, отсталый в своем развитии ребенок. Непонятливый. Сонный. Но теперь, научившись смотреть на вещи прямо, я понимаю, что был просто обыкновенным ребенком, таким, как многие другие. Как большинство других, которые тоже не думали об этом. Шампьон, конечно, утверждает обратное. Он рассказывает о разных вещах, о разговорах, которые, кстати, действительно велись и о которых я тоже вспоминаю. Но только он забывает уточнить, что они были скорее исключением. А вообще-то иногда мы дерзали поговорить о тайнах.
— Старина, слышишь, я точно тебе говорю, что дети появляются из пупка.
Но чаще всего мы рассуждали о чем-нибудь другом. О велогонке Тур де Франс. Или о Дугласе Фэрбенксе. Так что никакой связи. Теперь о значимости. О взаимной значимости. На десять разговоров о Тур де Франс приходился один разговор о пупке. Или же иногда рассуждали в компании. Еще два или три ученика. И непременно Шампьон. Потому что он всегда был свиньей, я уже говорил об этом. Я-то не думал о таких вещах. У меня была моя горбушка хлеба. И еще огонь и клубничное варенье. Вот три вещи, которые в детстве значили для меня намного больше всего остального. А значимость того, что связано с полом, я понял много позже, уже когда начал заниматься любовью… Прежде всего вот о чем надо сказать: я предполагаю, что так дело обстоит у всех (но это все-таки просто невероятно, то, что хотя речь идет о таких важных вещах, нам приходится всего лишь ПРЕДПОЛАГАТЬ) — короче, когда я собираюсь заняться любовью, у меня начинает выделяться слюна. Нет, нет, у меня не течет изо рта слюна, просто она становится более обильной, пенистой и, я бы сказал, более густой. Причем не в то время, когда я занимаюсь любовью, а в тот момент, когда я понимаю, что, если сейчас не случится какая-нибудь катастрофа, пожар, землетрясение, то ничто не сможет помешать моему удовольствию. На лестнице, например, когда я вижу перед собой ноги женщины. Или когда голос становится похож на вуаль, закрывающую лицо. Или просто — напросто, когда женщина начинает расстегивать пуговицы. Понятно, что я хочу сказать? Прекрасно. Так вот! Точно такой же приток слюны вызывали у меня в детстве три вещи: горбушка хлеба, огонь и клубничное варенье. Впрочем, не одновременно. Одно шло за другим. Как три любовные связи. С короткими переходными периодами, поскольку горбушка не сразу уступала место варенью. Правда, были и возвраты назад, своего рода рецидивы. Еще одна тартинка с вареньем, в то время, как я был уже в периоде огня. Как три связи, я уже сказал. Точь-в-точь.
Причем заметьте: только клубничное варенье. И никакое другое. Например, яблочное желе, которое нам присылала из Мо тетка, действовало по-другому, оно скорее помогало появлению у меня свежих, легких мыслей. Сироп, взвешенные мысли, желание взяться за тетради и чертить с линейкой красивые линии красными чернилами. Это тоже было приятно. Но вот клубничное варенье — это было нечто особенное, это было то, что вызывает слюну. Наверняка. С крупными-крупными ягодами, еще не полностью растворившимися в соке. От этого я становился мягким. И думал я тоже о чем-нибудь мягком. Я чувствовал истому. Не знаю, как выразиться: истома наполняла меня, начинала жить во мне и моя слюна, как бы набухала, а кровь как бы сгущалась и тоже превращалась в слюну.
Огонь пришел гораздо позже, когда у матери стали опухать ноги. Это причиняло ей боль, и отец решил, что теперь по утрам огонь в печи буду зажигать я. Сначала я немного поворчал. Зачем тогда нужна мать, если все надо делать самому? А потом обнаружил, что процесс зажигания огня доставляет мне то же самое удовольствие — почти, потому что были кое — какие нюансы, их я опускаю, поскольку о них можно было бы говорить бесконечно, — то же самое удовольствие, которое я получал от горбушки и от клубничного варенья. Не тогда, когда кладешь дрова в печь, а в тот момент, когда они вспыхивают. Спичку, момент напряженного ожидания, а потом, влуф! Захлебывающийся шепот горящих щепок, пламя, гудение. И тут во мне что-то возникало, что-то такое, что тогда я не смог бы объяснить, но что потом я узнал и что я испытываю, когда занимаюсь любовью: словно какое-то животное, прижавшись к тебе, вдруг начинает медленно расправлять свое тело.
ГЛАВА VI
Я, конечно, вполне отдаю себе отчет в том, что я выбрал не слишком пикантную тему. Трусики тети Шампьона — это, естественно, более веселая тема. Она вселяет в душу больше уверенности. Внешне. Потому что, в сущности, если хорошенько поразмыслить, то кому нужна эта уверенность? Тем, кто тоже воровал трусики? Но они не нуждаются в Шампьоне, чтобы обрести уверенность. Просто потому, что эта мания давно известна. Давно получила название. Давно занесена в каталоги. А вот другие? Те, кто питает пристрастие к бензину. Они, как и раньше, остаются в одиночестве. Остаются узниками собственной тюрьмы. Из-за Шампьона. Он сделал вид, что признается в чем-то, а признался только в том, В ЧЕМ УЖЕ ДАВНО ПРИЗНАЛИСЬ ДРУГИЕ. Он сказал, что откроет тюрьму, но, как оказалось, та тюрьма УЖЕ БЫЛА ОТКРЫТА (а он пока что остается внутри этой тюрьмы, остается там вместе со своим бензином). А вот я, я хочу действительно выйти из моей тюрьмы. И вывести из нее вместе с собой других людей. Потому что из двух вещей надо выбирать что-то одно. Или я один испытал то, о чем идет речь, и тогда я остаюсь один, наедине со своим насморком, со своим вареньем, тогда я, значит, ненормальный, монстр, единственный в своем роде, о чем и говорить даже больше не стоит (хотя, впрочем, может быть, это окажется интересным для науки). Или же я не один такой. Может быть, на свете сотни таких. А раз так, то тогда кто-то должен начать. Разве я не прав? Нужно, чтобы кто-то заговорил об этом первым. Так же дело обстоит и с любовью, самой обыкновенной любовью; нужно было, чтобы кто-то заговорил об этом первый. Кто-то, кто, наверное, писал, как вот я сейчас, рискуя всем, поставив все на карту, трепеща от надежды, не зная, на что он идет. Кто-то, кто, может быть, тоже думал, что он монстр. Как и я с моей «свежестью и бодростью», считавший себя ненормальным до тех пор, пока однажды не открыл, что многие другие были такие же, как я, в том числе и доктор, один из самых что ни на есть известных людей, награжденный орденом Почетного Легиона. Может, то же самое произойдет и с горбушкой, и с огнем, и с вареньем. Все эти вещи вокруг меня похожи на тюрьму, но, может быть, эта тюрьма существует только в воображении. Или тюрьма, в которой нас тысяча человек, что по сути то же самое. Может быть, даже тысячи других людей. Каждый думает, что он один-единственный. Каждый считает себя монстром. Каждый со своей тайной, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТАЙНОЙ ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИТ. Потому что вещь, о которой никто не говорит, но о которой все знают, — это же ведь уже больше не тайна. Разве не так? А если так, то вы не думаете, что мое повествование может оказаться полезным? И не думаете ли вы, что Шампьон мог бы сослужить гораздо более добрую службу, если бы рассказал историю с бензином, а не историю с трусиками? Хотя бы уже только потому, что это помогло бы науке, способствовало бы прогрессу в области знаний. Представьте себе, сколько, может быть, подростков, болтается в гаражах, а их несведущие родители даже и не подозревают о том вреде, который это может нанести их здоровью. А вот если бы Шампьон потрудился внятно объяснить, что здесь к чему, с его-то талантом, с его авторитетом, то, возможно, уже появился бы на свете профессор, который, изучив проблему, опубликовал бы свои выводы, предложил бы лекарство. Издал бы книгу, озаглавленную «Шампьонизм, его опасности и лечение». В общем, слава. А то трусики моей тети! Жалкие, робкие признания. К тому же, если бы еще тщательно и исчерпывающе описал проблему. Если бы он раскрыл ее во всей ее сложности. Так он даже и не собирался делать этого. Пишет об этом, как о каком-то пустяке. Посмеиваясь. Не внося ясности. Система. Трусики твоей тети, ладно, пусть будет так, но что ты с ними делал? Вы думаете, он объясняет. Ничуть не бывало. Загляните в книгу: многоточие. Тогда зачем заводить разговор об этом? С какой целью? Чтобы еще больше затемнить проблему. Это как любовь. Казалось бы, с тех пор как начали говорить о ней, с тех пор как начали писать о ней, могли бы уже разобраться, что к чему. Ничего подобного. Все тайны, тайны по самое горло. Сколько я прочитал книг, а мне так и не удалось узнать, сгущается ли у других слюна, как у меня, когда они занимаются любовью, или нет. По-прежнему неопределенность. Многоточие. Или пробел в тексте. Как белая простыня на постели. Но ведь простыня, когда занимаешься любовью, служит не для того, чтобы скрывать что-нибудь. У нее другая функция. Но есть система. Тюрьма. Тюрьма, из которой нет выхода. Многоточие, похожее на пунктирную линию, обозначающую границу, которую никто не осмеливается переступить.
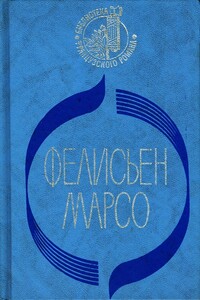
Фелисьен Марсо, замечательный писатель и драматург, член французской Академии, родился в 1913 г. в небольшом бельгийском городке Кортенберг. Его пьесы и романы пользуются успехом во всем мире.В сборник вошли первый роман писателя «Капри — остров маленький», тонкий психологический роман «На волка слава…», а также роман «Кризи», за который Марсо получил высшую литературную награду Франции — премию Академии Гонкуров.
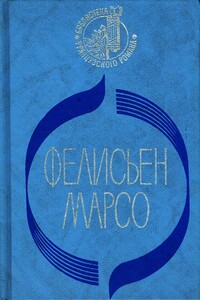
Фелисьен Марсо, замечательный писатель и драматург, член французской Академии, родился в 1913 г. в небольшом бельгийском городке Кортенберг. Его пьесы и романы пользуются успехом во всем мире.В сборник вошли первый роман писателя «Капри — остров маленький», тонкий психологический роман «На волка слава…», а также роман «Кризи», за который Марсо получил высшую литературную награду Франции — премию Академии Гонкуров.
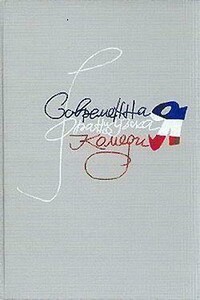
Главный персонаж комедии Ф. Марсо — мелкий служащий Эмиль Мажис. Он страдает поначалу от своего унизительного положения в обществе, не знает, как добиться успеха в этом гладком, внешне отполированном, как поверхность яйца, буржуазном мире, в который он хочет войти и не знает как. Он чувствует себя как бы «вне игры» и решает, чтобы войти в эту «игру», «разбить яйцо», то есть преступить моральные нормы и принципы Автор использует форму сатирического, гротескного фарса. Это фактически традиционная история о «воспитании чувств», введенная в рамки драматического действия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Когда Карла и Роберт поженились, им казалось, будто они созданы друг для друга, и вершиной их счастья стала беременность супруги. Но другая женщина решила, что их ребенок создан для нее…Драматическая история двух семей, для которых одна маленькая девочка стала всем!

Елена Чарник – поэт, эссеист. Родилась в Полтаве, окончила Харьковский государственный университет по специальности “русская филология”.Живет в Петербурге. Печаталась в журналах “Новый мир”, “Урал”.

Счастье – вещь ненадежная, преходящая. Жители шотландского городка и не стремятся к нему. Да и недосуг им замечать отсутствие счастья. Дел по горло. Уютно светятся в вечернем сумраке окна, вьется дымок из труб. Но загляните в эти окна, и увидите, что здешняя жизнь совсем не так благостна, как кажется со стороны. Своя доля печалей осеняет каждую старинную улочку и каждый дом. И каждого жителя. И в одном из этих домов, в кабинете абрикосового цвета, сидит Аня, консультант по вопросам семьи и брака. Будто священник, поджидающий прихожан в темноте исповедальни… И однажды приходят к ней Роза и Гарри, не способные жить друг без друга и опостылевшие друг дружке до смерти.