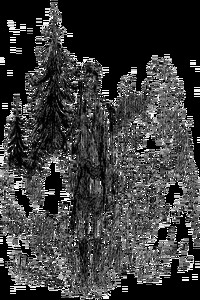На великом стоянии [сборник] - [10]
7
В его отсутствие Лысухин не стал угощаться один, полагая, что хозяин скоро вернется и в возобновившейся беседе за столом несомненно признается во всем сокровенном о связи с Секлетеей: его уж распирало охоткой на это, хотя отнюдь не из хвастливых побуждений. Оставшись в избе наедине, Лысухин через полноту доверия, оказанного ему хозяином, чувствовал себя освоенно и вольготно. Он потянулся, отключившись от всяких размышлений, но не поддался готовому одолеть его дремотному отупению и посмотрел в окошко. На воле ничего уже нельзя было различить в сгустившихся потемках. Ветер наваливался на стены и окна с таким шумом, будто кто‑то извне усердно обметал их обширным пуком прутьев с листвой на них. Струйки ветра даже проникали сквозь закрои ставней и колыхали занавески. Лысухин был доволен, что случайно избежал пагубной ночевки на улице в такую непогодь. Он взглянул на свои ручные часы: по времени как раз должны были передаваться новости. Он включил телевизор. На стабилизаторе под табуреткой огненной монетой возник накал, но аппарат не действовал по неисправности. Лысухин выдернул штепсель и подошел к перегородке с фотографиями. Портрет Секлетеи снова приковал его внимание. Теперь он понимал, почему она повязывалась, как монашка или как сестра милосердия в фильмах о первой империалистической войне: малые знания, полученные ею за семь лет обучения в школе, были наглухо запластованы иной, подпольной наукой раскольницы‑старухи, внушившей ей непреложно держаться веры и подготовившей ее в прислужки при церкви. И только ранний брак с Федором Аверкиным, старшим сыном тоже в староверской семье, да стихийное бедствие, постигшее село, понудили ее вместе с мужем приобщиться к колхозному труду накануне Отечественной войны. Невероятным оставалось пока, что побудило ее после выйти за безбожного «забежку». Может, был он тогда не только неутомимо подвижным, как теперь, а вероятно, отменно хватким, несмотря на свое разительное возрастное старшинство над ней. При мысли о том Лысухин живо переключился взглядом с портрета Секлетеи на другие фотографии и на одной из них, помутневшей от давности, увидел семейную чету — Захара Капитоныча в молодые годы и его жену Марфу. Признал их потому, что на коленях у него сидел мальчик лет шести, а у нее — девочка того же возраста — их двойняшки. Снимались они, должно быть, в конце двадцатых годов, может, на сельской ярмарке, ибо одеты были по‑деревенски нарядно. Но обличию их совсем не соответствовал фальшивый фон — аляповато намалеванная на парусине белая усадебная беседка среди темных кипарисов за прудом, на котором в горделивых позах красовались лебеди. Подтянуто сидевший на венском стуле Захар Капитоныч держал голову с буйно всхолмившимися курчавыми волосами молодцевато, навскидку и тем выглядел выгоднее своей красивой жены, оттого что она пригнетенно сникла корпусом, придерживая изумленно уставившуюся на фотоаппарат и вот‑вот готовую соскользнуть с ее коленей дочурку. Сохранилась лишь эта семейная фотография с Захара Капитоныча и Марфы. Порознь снимков с них не было тут. А вот их двойняшки сфотографировались не только с группой одноклассников по окончании семилетки, но и позднее — во фронтовой обстановке в годы войны. Улыбающегося Геральда с двумя медалями на гимнастерке фотокорреспондент запечатлел у танка. Регусту тоже кто‑то заснял в санбате при перевязке ею молоденького, как она, сержанта, раненного в голову. Лысухин сосредоточенно смотрел на юные лица этих ратных близнецов и сожалел, что их уже нет. Но вместе, судя по памятнику с их именами, он утверждался мнением, что их существование отнюдь не прекратилось вовсе: родившись тут, они тоже, как бы наравне с отцом, оставались коренными обитателями исчезнувшей деревни. Невозможно было обосновать, что крылось в этом странном стыке существенного с несущественным — условность, или некая закономерность, или то, чему еще время не подвело итога, — только Лысухин никак не мог отторгнуться от обуявших его строгих раздумий о том. Заслышав шаги поднимающегося на крыльцо хозяина, он отошел к столу и сел на прежнее место.
— Каковы успехи? — спросил старика, когда тот разделся и повесил на гвоздь фуфайку и фуражку.
— Занесло все вехи, — без уныния отшутился на его вопрос старик. — Не показывается и себя нигде не выдает. Манил на задворках и у овинных ям на старых гумнах — ничуть ее там. Но дожжик турнет ее домой, где бы она ни облежалась. Он уж держится на ниточке и вот‑вот прыснет. Тучи наглухо обложили небо.
— А не задрал ли вашу овечку волк?
— Не должно: про волков давно не слыхать в наших местах. Нынче зимой Митюха Магерин доглядел передернутый поземкой крупный след и поставил капкан. Думал, волк попадет, а угодила рысь задней лапой. И с опушки забилась в самый густой чапыж. Он бы сразу взял ее, да порвался ремень на лыже. Едва настиг ее вбродок и придушил вилашкой. Но попахал собой снег на Свинкине.
— На каком Свинкине?
— Лес под Максютином, — смеясь, сел старик на свой стул. — По веснам при разливе Нодоги его затопляет. Годов тому десять председатель Максютинского колхоза Климков додумался огородить его и в начале лета завезти в тот лес со свинофермы шестьдесят голов поросят: дескать, к осени отъедятся на готовых природных харчах не хуже диких кабанчиков. Что было! — с зауморной миной на лице воскликнул старик. — Сперва, после новоселья‑то, поросята не подавали голоса, только рыскали да хватали, что послаще: ландыш, чернижник, мокрец. И добывали всякую живность под расковыренным дерном да в иле по ручью. Не так уж много доброго нашлось им в том лесу, и попадало оно больше не в утробу, а под копыта. Вскоре былинки не осталось там, и корни деревьев оголились кое‑где в разрытой да разметанной земле. С нехватки пищи поросята стали кидаться друг на дружку, как в боксе. Такой поднимут визг — случись бы по близости тот же волк, — не только кинуться на них, а убежал бы со страху, поджав хвост. Хотели их обратно в свинарник, да разве подступишься. Бабы с телеги‑то бросали им подкормку со страхом и опаской: оступись на возу да упади к ним за огородку, тут же загрызли бы — до того одичали. Не в рост их гнало и не в длину, а больше в сугорбку. И рыло у каждого очень вытянулось и завострилось. Забивали их по осени там же, в специальной клетухе: поштучно пускали в него через узкий лаз и с полатей ножом на черенке, не короче навильника, кололи под ухо. На мясе не оказалось жиринки — постнее зайчатины. И шкуры в заготкоже еле приняли за бесценок: ужасно засмолились от грязи. На весь район прогремел Климков своей затеей выскочить по мясопоставкам в передовики. А лес тот, где откармливались поросята, так и называется с тех пор Свинкиным.

«Голодная степь» — роман о рабочем классе, о дружбе людей разных национальностей. Время действия романа — начало пятидесятых годов, место действия — Ленинград и Голодная степь в Узбекистане. Туда, на строящийся хлопкозавод, приезжают ленинградские рабочие-монтажники, чтобы собрать дизели и генераторы, пустить дизель-электрическую станцию. Большое место в романе занимают нравственные проблемы. Герои молоды, они любят, ревнуют, размышляют о жизни, о своем месте в ней.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.
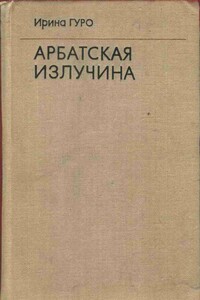
Книга Ирины Гуро посвящена Москве и москвичам. В центре романа — судьба кадрового военного Дробитько, который по болезни вынужден оставить армию, но вновь находит себя в непривычной гражданской жизни, работая в коллективе людей, создающих красоту родного города, украшая его садами и парками. Случай сталкивает Дробитько с Лавровским, человеком, прошедшим сложный жизненный путь. Долгие годы провел он в эмиграции, но под конец жизни обрел родину. Писательница рассказывает о тех непростых обстоятельствах, в которых сложились характеры ее героев.

Повести, вошедшие в новую книгу писателя, посвящены нашей современности. Одна из них остро рассматривает проблемы семьи. Другая рассказывает о профессиональной нечистоплотности врача, терпящего по этой причине нравственный крах. Повесть «Воин» — о том, как нелегко приходится человеку, которому до всего есть дело. Повесть «Порог» — о мужественном уходе из жизни человека, достойно ее прожившего.