На службе у олигарха - [7]
— Влад, — сказала ведьма, — ты сволочь.
— Я знаю, — грустно признался Владик, у которого всегда были сложные отношения с ведьмами. — А почему я сволочь, Нателлочка?
— Ты обещал!
— Что обещал? У тебя же вроде Ванька Прошкин в кавалерах.
— Дурак, я не про это. Ты обещал поставить фельетон в субботний номер, а сейчас мне сказали, что его вообще вдвое сократили и перенесли на вторник.
— Кто сказал?
— Не придуривайся, Влад. Со мной такие штучки не проходят. Хочешь, чтобы все про тебя узнали?
Владик испугался.
— Нет, не хочу… Девочка моя, но ведь это очень взрывной материал. Если его поставить в субботу, он спалит весь номер. Люди устали от потрясений. У тебя там труп плачет в канализации. Причём детский. Какой же это фельетон?
Девица посмотрела на меня, почесала коленку.
— Вы тоже журналист?
— Нет, — сказал я. — Я у Влада на содержании. Вроде приёмного сына.
— Это так, — подтвердил мой друг. — Кстати, я вас не познакомил. Если будет желание, Нателла, он всё сделает, чего попросишь. Витькой его зовут. У него связи на самом верху.
— Юмористы, мать вашу, — почему-то выругалась зеленоволосая и умчалась.
Я повторил вопрос, но Владик не понял. То есть сперва не понял, водка в нём играла, решил, что я его редакционной шлюшкой заинтересовался, и это было странно. Многое было странно в нашем разговоре, а это — особенно.
— Чего тут думать, — бодро посоветовал он, — бери бутылку и вези к себе. Кстати, окажешь мне услугу.
— Влад, кончай керосинить, тебе ещё работать… Я спрашиваю: что значат все эти исчезновения? Он что — вроде Синей Бороды?
Владик начал вдумчиво шелушить креветки, жирные, будто промасленные.
— Много тебе посулил? — спросил проницательно.
— Деньги не главное, — соврал я в ответ. Или не соврал?
— Нет, он не Синяя Борода, он страшнее. И сколько бы ни обещал, всё равно кинет… Витька, я тебя люблю, ты же талантливый человек… Вот если бы он мне лично обещал миллион, я бы всё равно постарался смыться. Хотя…
— Что — хотя?
— Если он уже глаз положил, не смоешься. От него не смоешься. Он хозяин в России. Их всего таких, может, с пяток или чуть больше.
— И откуда же они взялись?
Вопрос был риторический. Мы оба с Владиком знали, откуда взялись Оболдуев и ему подобные, и откуда взялась вся нынешняя власть, и что она собой представляет. Судачили об этом не раз по пьяни и на трезвяка. Но где лучше? Где лучше жить, чёрт возьми, чем в наших Богом проклятых палестинах? Вот одна из сокровеннейших тайн бытия. Сидим по уши в дерьме, нюхаем дерьмо, жрём дерьмо, а чувство такое, будто по-прежнему парим.
— Вить, мне пора, — трезво сказал Владик.
— Иди, — напутствовал я его таким тоном, словно провожал в последний путь.
— Всё-таки не пойму, зачем именно ты ему понадобился… С другой стороны, ты производишь впечатление недалёкого честного парня. Это дефицит. Может, поэтому?
— Узнаю — сообщу, — пообещал я.
— Позвони вечерком, чего-нибудь накопаю.
— Спасибо, Влад. Только не хорони меня прежде времени.
— Сам себя хоронишь, и по роже видно, что этому рад.
Он ушёл к себе, а я остался в буфете. Взял ещё кофе и пару бутербродов и начал размышлять о сюжете, который вдруг развернула передо мной сама жизнь. Обычно в это время я сидел дома и работал, и эта привычка стала второй натурой. Сюжет прекрасный, суперсовременный. Олигарх, его дочь от проститутки. Или от герцогини. Один юрист Гарий Наумович стоил целого романа, если хорошенько взяться. Не за роман, а за юриста. Всё-таки я был писателем и уважал себя за это. А иногда, напротив, презирал. Писательство, в сущности, самое никчёмное занятие на свете, но в нём есть капелька волшебства, поэтому люди к нему и тянутся. Свои романы я не любил и в душе был согласен, что их не надо печатать. Но силу в себе чувствовал. Ту самую, от которой стонут по ночам. Писатели бывают разные, но, как правило, это чрезвычайно самолюбивые люди и обязательно с какими-нибудь закидонами, фобиями. Без этого нельзя. Если у тебя нет никакой фобии, то ты не писатель, а щелкопёр. Фобии бывают опасные, на грани членовредительства, а бывают вполне невинного свойства. Я был знаком с литератором (известная фамилия), который свихнулся на медицине, и любимым его присловьем было: кто медленно жуёт, тот долго живёт. Бедолага дотянул до сорока лет, хотя питался червями и орехами по системе Голдмана, зато оставил после себя сборник прекрасных рассказов, который до сих пор иногда переиздают крошечными тиражами. Другой пил мочу. Третий совершенно всерьёз считал себя реинкарнацией Будды, но сочинял романы на бытовые темы, правда, перенасыщенные чудовищными непристойностями. Жизнь представлялась ему ужасным кошмаром кровосмесительства, и этот кошмар он старательно втискивал в рамки сюжета. Был моден, знаменит, владел изящным стилем. Особая статья — писатели-женщины, коих особенно много развелось перед самым нашествием. Эти вообще сплошная фобия, клади любую в психушку, но не надейся на излечение.
Если же говорить без шуток, то истинное писательство, как всякое художество, — это род недуга, психическая болезнь сродни мании величия. Художник стремится создать мир нерукотворный, уподобляясь Творцу. Червяк — а туда же. Конечно, сбивают с толку примеры великих, у кого это, кажется, и получалось, кому это почти удавалось. «Илиада», «Божественная комедия», «Братья Карамазовы»… Но это всё только видимость. Обман зрения и души. Миры создаются не здесь и не грешными людишками.
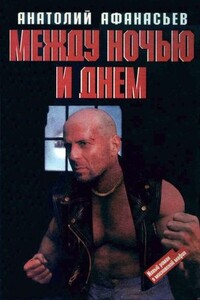
На московского архитектора «наезжает» бандитская группировка, его любимая подвергается жестокому и циничному надругательству…Исход этой неравной схватки непредсказуем, как непредсказуем весь ход событий в романах Анатолия Афанасьева.

Напряженный криминальный сюжет, изобилие драматических и любовных сцен, остроумная, часто на грани гротеска, манера изложения безусловно привлекут к супербестселлеру Анатолия Афанасьева внимание самых широких кругов читателей.

«Грешная женщина» — вторая часть самого «громкого» уголовного романа прошлого (1994) года «Первый визит сатаны». Писатель в этом произведении показал одну из болевых точек нашего смутного времени — криминализацию общественного сознания. Преступность как фон даже интимных, нежных человеческих отношений — удивительный феномен перехода к «рыночному раю». Изысканный, остроироничный стиль авторского изложения, напряженный драматический сюжет безусловно принесут «Грешной женщине» популярность среди наших читателей.
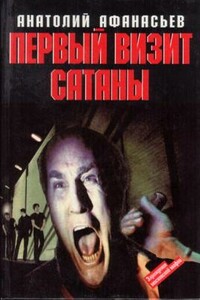
Современный мир в романах Анатолия Афанасьева — мир криминальных отношений, которые стали нормой жизни — жизни, где размыты границы порока и добродетели, верности и предательства, любви и кровавого преступления… «Первый визит сатаны» — роман писателя о зарождении московской мафии считается одним из лучших.
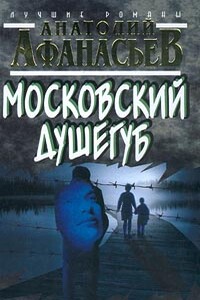
Молодая красивая женщина становится профессиональным убийцей на службе у московской мафии.Она безжалостна к своим жертвам, но ее настигает любовь…
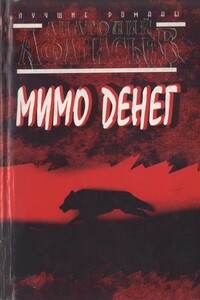
Сегодня Анатолий Афанасьев — один из самых популярных современных писателей… Его книги везут почитать на отдых куда-нибудь в Ниццу или на Багамы живые персонажи его писаний. Пресыщенные «новые русские», полеживая на золотистом песке, по-мазохистски читают о своих же дьявольских деяниях… Афанасьев любит гротеск, любит бурлеск с фантасмагорическими героями… Его поразительная ирония вызывает шок у читателя.В новом романе «Мимо денег» писатель вступает в битву с сатанинским укладом, вторгается в страшный и мерзкий мир, как в синильную кислоту, в которой невозможно уцелеть живому…

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
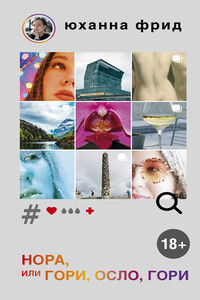
Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
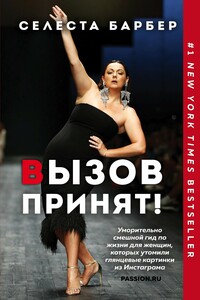
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
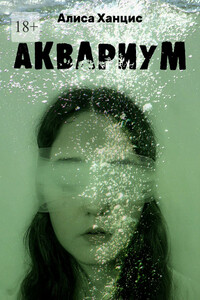
Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.