На реках вавилонских - [36]
Снилась мне женщина в летнем платье. Она отряхивала волосы, мягкие густые волосы, и от нее летели дождевые капли, попадая мне на кожу, они несли мне, голому, прохладу и тепло, я хотел ей сказать, что нсмогу и не хочу прикасаться к женщине, однако мой рот только формовал воздух, но не издавал ни звука, сколько я ни старался: казалось, голосовые связки у меня исчезли; я хотел подать ей знак, объясниться, но она протянула руку, и я отступил назад, а взгляд, который повис в воздухе между нами, не принадлежал ни мне, ни ей, — это был наш общий взгляд, внушавший мне тоску и одновременно стыд, понимающий взгляд, который не требовал прикосновения и угас, когда в женщине, сидевшей в пляжной кабинке, я узнал мою мать, — она так низко нахлобучила широкополую шляпу, что заглянуть ей в лицо я не мог, просто я знал, что это она. В конце концов она поднялась и двинулась прочь, — я следовал за ней до тех пор, пока не растаяла ее тень, а когда принялся искать следы ее ног на песке, то нашел только птичьи следы размером с ладонь.
Во второй половине дня мне надлежало прийти в служебное здание, комната 201. Явка по поводу трудоустройства. Пятнадцатая или двадцатая — я считать перестал. Когда меня вызывали, я шел. Как всегда, в коридоре собралась толпа ожидающих. Воздух был сырой и тяжелый, словно людские усилия и терпение скопились в нем и нависали плотным облаком. Ожидающие листали журналы. Когда вызвали человека, сидевшего со мною рядом, он сунул мне в руки свой журнал. Старый, августовский номер. Еще ни разу не случалось, чтобы какой-нибудь журнал обошелся без статьи про страну, из которой я приехал. На сей раз статья называлась: "Заключенные. Психический шок побуждает арестантов к правому радикализму". Но страницы с этой статьей были вырваны. Я сложил журнал и передал его дальше налево. Женщина рядом без конца благодарила.
— Пишке!
Я встал.
— Ну, как поживаешь? — Правой рукой Люттих похлопал себя по кожаному жилету, и, найдя, что искал, левой извлек наружу пакетик табака.
Я закрыл за собой дверь.
— Спасибо. А вы как?
— Пфф. Если честно, то от здешней работы меня тошнит, но кто›е просто так откажется от места чиновника. При нынешнем состоянии рынка труда. — То ли он мне подмигивал, то ли ему в глаз попала крошка табака, этого я выяснять не собирался. — Да, всем нам нелегко приходится. — Он достал листок бумаги и спрессовал табак.
— Нелегко?
— Да уж. — Он скатал самокрутку, лизнул ее, заклеил и сунул за ухо, потом стряхнул крошки с газеты в корзину для бумаг. — Не хочешь ли присесть? — Крошки табака рассыпались и остались лежать вокруг корзины. Люттих сложил газету, встал и занялся кофеваркой. — Выпьешь чашечку?
Я кивнул. Он протянул мне чашку и подвинул по столу коробку с картотекой, при этом немного кофе выплеснулось из чашки, но не на стол, а мне на брюки. Я взял у него чашку.
— Спасибо, — сказал я, прежде чем он успел что-то произнести, и открыл коробку.
— В сущности, тебе туда и заглядывать незачем. Актеров по-прежнему никто не ищет. И сказать по правде, за десять лет, что я здесь сижу, актера искали всего один раз. Он должен был играть узника концлагеря.
Люттих все снова и снова рассказывал мне про этот единственный за десять лет его работы случай, когда официально предлагалось место такому, как я, но никто из знакомых ему безработных актеров занять его не смог, поскольку заявка была отозвана — возможно, кандидата давно нашли через другую посредническую контору или в собствен но ной кинокомпании и вовсе не собирались устраивать пробы кому-то из множества незнакомых безработных актеров, якобы чтобы не внушать напрасных надежд, а на самом деле, как я уже объяснял Люттиху, когда он несколько месяцев назад впервые рассказал мне эту историю, — потому что предполагалось: безработный актер не зря ходит без работы, он явно бездарен и не имеет успеха, так что его не пристроишь, не найдешь ему места, и уважения он не заслуживает. Мое объяснение Люттих, очевидно, забыл сразу же после того, как впервые услышал, поскольку он продолжал без конца рассказывать мне ту историю и, по-видимому, не помнил, что уже не раз ее рассказывал, и что я объяснил ецу, в чем тут дело. Я на Люттиха за это не сердился, в конце концов, ему приходилось время от времени видеть безработных актеров. Наверно, он хотел удостовериться, что рассказал эту историю каждому, чтобы наш брат не смущал его всякий раз своим полным надежды взглядом. Здороваясь с ним, я ему в угоду опускал глаза и поначалу избегал его прямого взгляда, — чтобы он не считал меня дураком или нахалом, а только безнадежно-обнадеженным, каковым я поэтому мог беспрепятственно оставаться.
Люттих закурил самокрутку и затянулся. Я ждал, когда он выдохнет дым, но, как часто бывало, он, казалось, этого делать не собирался, — я не услышал выдоха, не увидел дыма, который он рано или поздно должен был выпустить изо рта или из носа.
Я попытался назаметно за ним понаблюдать. Наши взгляды не должны были встретиться. Но ничего не происходило — казалось, Люттих проглотил дым вместе с собственным дыханием, возможно, дым растворился у него внутри или вышел из его тела через отверстие с другой стороны. Со второй затяжкой Люттих не торопился.
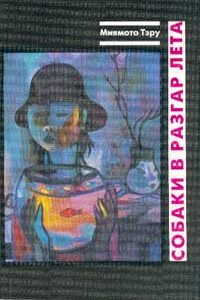
Слава "новой японской прозы", ныне активно переводимой и превозносимой на Западе, — заслуга послевоенного поколения японских писателей, громко заявивших о себе во второй половине 70-х.Один из фаворитов «новых» — Миямото Тэру (р. 1947) начинал, как и многие его коллеги, не с литературы, а с бизнеса, проработав до 28 лет в рекламном агентстве. Тэру вначале был известен как автор «чистой» прозы, но, что симптоматично для «новых», перешел к массовым жанрам. Сейчас он один из самых популярных авторов в Японии, обласканный критикой, премиями и большими тиражами.За повесть "Мутная река"("Доро-но кава"), опубликованную в июле 1977 г.

Ричард Бротиган (1935–1984) — едва ли не последний из современных американских классиков, оставшийся до сих пор неизвестным российскому читателю. Его творчество отличает мягкий юмор, вывернутая наизнанку логика, поэтически филигранная работа со словом.

Шорт-лист премии Белкина за 2009-ый год.Об авторе: Родился в Москве. Окончил Литинститут (1982). Работал наборщиком в типографии (1972–75), дворником (1977–79), редактором в журнале «Вильнюс» (1982–88). В 1988 возглавил Русский культурный центр в Вильнюсе. С 1992 живет в Москве. (http://magazines.russ.ru)
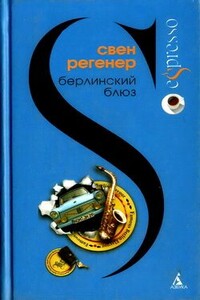
Впервые на русском – главный немецкий бестселлер начала XXI века, дебютный роман знаменитого музыканта, лидера известной и российскому слушателю группы «Element of Crime».1989 год. Франк Леман живет в крошечной квартирке в берлинском богемном квартале Кройцберг и работает барменом. Внезапно одно непредвиденное происшествие за другим начинает угрожать его безмятежному существованию: однажды ночью по пути домой он встречает весьма недружелюбно настроенную собаку (задобрить ее удается лишь изрядной порцией шнапса); в Берлин планируют нагрянуть его родители из провинции; и он влюбляется в прекрасную повариху, которая назначает ему свидание в бассейне.

Марк Гиршин родился и вырос в Одессе. Рукописи его произведений кочевали по редакциям советских журналов и издательств, но впервые опубликоваться ему удалось только после отъезда на Запад в 1974 году. Недавно в Нью-Йорке вышел его роман «Брайтон Бич». Главная тема нового романа — врастание русского эмигранта в американскую жизнь, попытки самоутвердиться в водовороте современного Нью-Йорка.Предисловие Сергея Довлатова.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.