На путях смерти - [24]
На Дарью, Николаевну оглянулся Виктор сумрачный, вслед утонувшей в тьму его дома. Его дом... Его имение... Давно ли? Захотелось порадоваться ли, подивиться ли?
«Вот богат. Скольким только того и надо...»
Тусклый взор перевел туда, где те две. Зоя на сестру уж поглядывала насмешливыми своими светлячками. Забытый стакан. Выпил жадно. Еще налил. Хорош Лазаревский погреб. И пил внезапно проснувшеюся жаждой. Пальцами белыми, жесткими по скатерти стучал забвенно. Зол был на себя за мимолетную думу о деньгах. Но злоба та притворна. Но и дума та тоже притворна была. Усы свои золотистые купая в вине, косым взглядом оглядел комнату.
Обе здесь. Зоины светлячки, задором веселым грусть скрывая, обожгли-захолодили.
- А мой-то приехал. Тот, помнишь? Виделись. Не люблю. А он обожает. Впрочем, тебе про то знать не надо. И я может тебя обманываю, и никакого того у меня не было и нет. Верь не верь, как хочешь. Ах, как ты меня полюбишь. Скоро ли, не скоро ли... Да ты уж любишь... Ах, глупый мальчик! Ведь любил! Ведь, любил! А я-то тебя не люблю. Так и знай! Не люблю. А этот цветок, что в письме - наколдованный.
Встал. Окно открыл среднее. Свечи многие над столом зажалобились-заплакали.
Во двор окно. Большой-большой двор. Осокорь вековой посредине. Во флигеле три окна весело желтым светом глядят. Шторки белые не спущены; полосками наивными поверх окон. Лампа видна подчас; силуэт ходящий заслоняет. Руки-тени весело поясняют. Верно, рассказывает занятное. Уж не поп ли философ? Нет. Вон рукав широкий его рясы навстречу тому. Чу! Песня? Или почудилось... И холодок весенней ночи звездной показался жутким, враждебным.
Забыв закрыть раму, отошел. Вспомнил, или не забывал? Голову опустив, чтоб не видеть, прошел мимо стола, повалив что-то, - и зазвенело - захватил бутылку. Шел-спешил-бормотал:
- Я туда... Я к себе... А, да!
И оглянувшись, сгреб три письма, сунул в карман широкой бархатной блузы. Думая о Дарье Николаевне, вышел в ту арку белую, куда во тьму потонул белый призрак. Вышел, согнувшись: чуял взор серых глаз. Во тьме защурившись, не оглядываясь, чуял ее, ту. И страшно было то, что не гонится за ним Юлия, что там она, в столовой, и в спину ему глядит, головою скорбной забвенно покачивая.
На окна высокие взглядывая, туда, где звездное, шел во тьме. Пытался думать.
- Стены мои... Как вы красивы, стены мои...
Но спички не зажигал. Но торопился.
- Куда же она прошла? А те там... обе. Куда прошла? Зачем?
В коридор освещенный вышел не скоро. Остановился. Вздохнул глубоко. И еще.
По крутой лестнице туда поднимался, к себе, в свое.
Не дрожащими уже руками засвечал спиртовую лампу в мастерской. Сильные тени легли спокойно на свои места. Шептали презрительно-важно:
- Не думай. Так мы и жили. И без тебя так. Посмотреть хочешь - посмотри. А мы - ночные.
Синие тени остро легли. Чуть побледнев лицом, но не дрогнув, на того, на воскового брата, глядит Виктор, на сидящего долгие дни уж и долгие ночи здесь, в запертой комнате. В свою какую-то даль заоконную глядит бессменно восковой брат Антон. В складках куртки бархатной пыль уже легла серая.
- А! Это хорошо.
Кисть взял, палитру. К картине подошел. По сухому чуть тронул. Засеребрилась складка куртки на картине. Отошел. Сел поудобнее на диване у противостоящей стены. На картину свою новую смотрит. Брови нависли. Взгляд пытливо строг.
Точно, верно изображен на картине восковой юноша-брат. Так же у окна сидит, живой - не живой в свое смотрит. Освещение сумеречное. И неопределенна, смутна даль-мгла заоконная. Но сидит юноша не в этой низкой комнате со светлыми стенами. Темный старый дуб, позолота рам. Сидит последний в роде в комнате башни многоугольной. На стенах портреты предков. В бархат, в шелк, в сталь лат одел Виктор родичей своих, по стенам замковой башни развесил портреты. Трудны ракурсы некоторых, на той вон убегающей стене. Отвернулся от них Антон лицом восковым. Забыл. Или видеть не хочет маскарада того. А те все на последнего смотрят, кто упорно-важно, кто угрюмо, кто и насмешливо. Злобно-прекрасен сверлящий взгляд железного деда из-под шелома островерхого; сильна рука его костистая на эфесе тяжелом. А другой дед, с грубым, тяжелым, с хмурым, молчащим лицом старика Горюнова, Михаилы Филипповича, в иссине-красное платье бархатное одет. Широки складки. И перо растрепанное на бархатном берете. Презрительный взгляд лениво поднял, будто на мгновение. По спине внука зачахшего скользит. Недоуменно важен Макар в наряде алом, с цепями золотыми, легшими на гордую грудь. Близко из обветшалой рамы выглядывает лицо бритое; коротко стриженные волосы седые не покрыты. Как мышка робкая, наивно-хитрая, выглядывает лицо сухое, любопытно смотрит в спину племянника воскового. То Доримедонт.
И много их, портретов, на стенах башенной комнаты.
Вон лицо разбойничье. Молодое, но под глазами сине, и глаза красным отсвечивают. Там вон монах; лицо его спокойное. А монашенки юной бледнолицей глаза плачут-рыдают.
Много их, уходящих в полумрак башенной глуби. Разными силами сильные смотрят на воскового, на последнего. А тот не на них смотрит, хилый, желтолицый, но прекрасный далекостью взора.
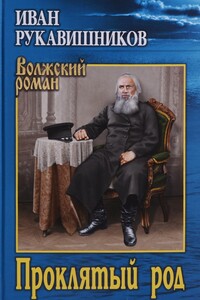
Роман-трилогия Ивана Сергеевича Рукавишникова (1877—1930) — это история трех поколений нижегородского купеческого рода, из которого вышел и сам автор. На рубежеXIX—XX веков крупный торгово-промышленный капитал России заявил о себе во весь голос, и казалось, что ему принадлежит будущее. Поэтому изображенные в романе «денежные тузы» со всеми их стремлениями, страстями, слабостями, традициями, мечтами и по сей день вызывают немалый интерес. Роман практически не издавался в советское время. В связи с гонениями на литературу, выходящую за рамки соцреализма, его изъяли из библиотек, но интерес к нему не ослабевал.

Рукавишников И. С.Проклятый род: Роман. — Нижний Новгород: издательство «Нижегородская ярмарка» совместно с издательством «Покровка», 1999. — 624 с., илл. (художник М.Бржезинская).Иван Сергеевич Рукавишников (1877-1930), — потомок известной нижегородской купеческой династии. Он не стал продолжателем фамильного дела, а был заметным литератором — писал стихи и прозу. Ко времени выхода данной книги его имя было прочно забыто, а основное его творение — роман «Проклятый род» — стало не просто библиографической редкостью, а неким мифом.

Рукавишников И. С.Проклятый род: Роман. — Нижний Новгород: издательство «Нижегородская ярмарка» совместно с издательством «Покровка», 1999. — 624 с., илл. (художник М.Бржезинская).Иван Сергеевич Рукавишников (1877-1930), — потомок известной нижегородской купеческой династии. Он не стал продолжателем фамильного дела, а был заметным литератором — писал стихи и прозу. Ко времени выхода данной книги его имя было прочно забыто, а основное его творение — роман «Проклятый род» — стало не просто библиографической редкостью, а неким мифом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».

Каждый выживших потом будет называть своё количество атаковавших конвой стремительных серых теней: одни будут говорить о семи кораблях, другие о десяти, а некоторые насчитают вообще два десятка. Как известно: "У страха глаза велики". Более опытные будут добавлять, что это были необычные пираты - уж очень дисциплинировано и организовано вели себя нападавшие, а корабли были как на подбор: однотипные, быстроходные корветы и яхты.

Наш современник попал в другой мир, в тело молодого графа. Мир магии, пара, пороха и электричества, а ещё это мир дирижаблей — воздушных левиафанов. Очередной раз извиняюсь за ошибки. Кому мало моих извинений недостаточно, то считайте, что я художник, я так вижу!