На пути к Цусиме - [3]
Публика приняла предложения Кладо с восторгом, однако многие специалисты отнеслись к ним настороженно. В военно–морских кругах Кладо вообще недолюбливали и считали человеком небескорыстным, действовавшим в интересах вице–адмирала А. А. Бирилева, который мечтал о кресле морского министра и в конце июня 1905 г. действительно его получил — нечастый и в российской, и в мировой практике случай, когда в условиях еще продолжавшейся войны руководителем военно-морского ведомства назначался адмирал, не имевший боевого опыта[12]. Позднее личный секретарь адмирала 3. П. Рожественского лейтенант Е. В. Свенторжецкий, явно со слов своего шефа так комментировал морскому писателю В. И. Семенову публицистические выступления Кладо: «Знаете ли Вы, что г. Кладо все свое гражданское мужество проявляет в надежде на воздаяние? Весь его литературный вопль — перепев бирилевского доклада от октября (или ноября) месяца 1904 года! Доклада, в котором наш «боевой» адмирал (где только он воевал?) доказывает полную возможность и даже необходимость посылки нам в подкрепление всякой рухляди […] Свалят (морского министра) Авелана, посадят на его место Бирилева — тут‑то Кладо и расцветет!»[13].
В общем, вокруг флотских дел закипели нешуточные страсти. На волне этих настроений 1(14) февраля 1904 г. Николай II принял группу адмиралов — 3. П. Рожественского, А. М. Абазу и великого князя Александра Михайловича, а спустя еще три недели заслушал «длинный морской доклад»[14]. Вскоре о подготовке похода части Балтийского флота во главе с Рожественским к японским берегам открыто заговорили и в западноевропейской печати[15]. Однако зарубежные комментаторы — британский авторитет в военно–морских вопросах У. Уилсон (W. H. Wilson), а за ним и другие западноевропейские эксперты — усомнились в способности будущей русской эскадры не только выполнить возложенную на нее боевую задачу, но даже добраться до цели, настолько труден и долог быть путь[16].
Российскому императору понадобилось более двух месяцев, чтобы окончательно осознать, что в лице Японии Россия столкнулась вовсе не с таким заведомо слабым противником, как ему представлялось накануне войны. К практическому решению проблем своих военно–морских сил на Дальнем Востоке Николай II обратился в начале апреля 1904 г., едва, по собственному выражению, «опомнившись от ужасного несчастья» — гибели адмирала Макарова на броненосце «Петропавловск». 2(15) апреля он принял бывшего командующего Тихоокеанской эскадрой адмирала Старка, 5(18) выслушал очередной пространный «морской доклад», а 12(25) долго беседовал с начальником Главного морского штаба контр–адмиралом свиты Рожественским, которому тогда особенно благоволил[17]. В ходе этих совещаний был принципиально решен как вопрос о формировании новой эскадры и посылке ее на Дальний Восток, так и проблема ее командующего. Еще 31 марта (12 апреля) в интервью французской газете «Petit Parisien» Рожественский признал, что вопрос о нем как командующем эскадрой фактически уже решен, причем на самом высоком уровне[18].
17(30) апреля дядя царя, генерал–адмирал великий князь Алексей Александрович приказом по морскому ведомству распорядился именовать бывшую Тихоокеанскую эскадру 1–й эскадрой, а суда, строившиеся на Балтике, — 2–й эскадрой флота Тихого океана. 19–го числа командующим новой (2–й) эскадрой был утвержден контр–адмирал Рожественский с оставлением в должности начальника Главного морского штаба. Инициатива этого назначения исходила от Николая II и его дяди, генерал- адмирала. Сам же Рожественский, судя по воспоминаниям его соратников и его собственным позднейшим документам, не хотел брать на себя эту тяжелую обузу, будучи вообще против посылки эскадры в планировавшемся составе. Однако как человек чести и долга он счел себя не вправе официально заявлять об этом и принял командование.
В августе 1904 г. на секретном совещании в Петергофе 2–й эскадре была поставлена задача соединиться в Порт–Артуре с кораблями 1–й и, нанеся поражение главным силам японского флота, завоевать господство на море. Однако вскоре 1–я русская Тихоокеанская эскадра была окончательно обессилена, а 20 декабря 1904 г. после многомесячной осады пал и Порт–Артур. Вместо того чтобы немедленно вернуть 2–ю эскадру из Индийского океана домой, смириться с тем, что война проиграна, и начать переговоры о заключении «мира не унизительного» (первый мирный зондаж через своего посланника в Лондоне Япония предприняла уже в июле 1904 г[19]., а разговоры о гипотетическом посредничестве различных западноевропейских политиков в будущих мирных переговорах японская печать затеяла еще в марте того же года), Николай лично настоял на продолжении похода. Тогда же «Новое время» опубликовало большое письмо адмирала Бирилева, в котором тот доказывал, что «2–я эскадра есть огромная, хорошо сформированная и укомплектованная сила, равная силам японского флота и имеющая все шансы на полный успех в открытом бою»[20]. «Падение Порт–Артура ничего не изменило в неблагоприятную сторону в положении адмирала Рожественского [...] Нет, жребий уже брошен, и надо испить чашу до дна [...] Идти назад — нельзя», — вторил Бирилеву со страниц той же газеты его последователь «Прибой» (Кладо)
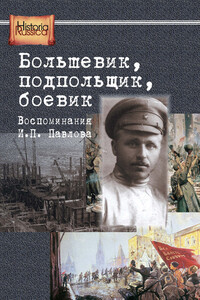
Иван Петрович Павлов (1889–1959) принадлежал к почти забытой ныне когорте старых большевиков. Его воспоминания охватывают период с конца ХГХ в. до начала 1950-х годов. Это – исповедь непримиримого борца с самодержавием, «рядового ленинской гвардии», подпольщика, тюремного сидельца и политического ссыльного. В то же время читатель из первых уст узнает о настроениях в действующей армии и в Петрограде в 1917 г., как и в какой обстановке в российской провинции в 1918 г. создавались и действовали красная гвардия, органы ЧК, а затем и подразделения РККА, что в 1920-е годы представлял собой местный советский аппарат, как он понимал и проводил правительственный курс применительно к Русской православной церкви, к «нэпманам», позже – к крестьянам-середнякам и сельским «богатеям»-кулакам, об атмосфере в правящей партии в годы «большого террора», о повседневной жизни российской и советской глубинки.Книга, выход которой в свет приурочен к 110-й годовщине первой русской революции, предназначена для специалистов-историков, а также всех, кто интересуется историей России XX в.
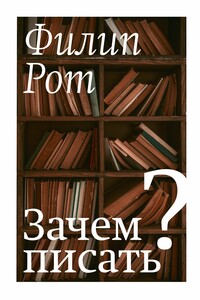
Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
