На практике - [7]
Сколько при мне во время летней практики было этих случаев. Составителя, который вскочил к нам тогда на полном ходу, — впоследствии перерезало паровозом. При сцепке вагонов он упал между рельсами, а состав шел задним ходом. Пока катились вагоны с высокими осями, он свободно мог лежать, но когда надвинулся паровоз, с своей низко сидящей топкой, когда выяснилась ему перспектива быть раздавленным поддувалом, он сделал отчаянное усилие проскочить между последними перед топкой двумя колесами. Его разрезало пополам, и я видел этот труп с застывшими, широко раскрытыми от ужаса глазами.
Другому составителю, когда он проскакивал между буферами, захватило голову. Выскочив и кружась, он несколько раз быстро проговорил:
- Ничего, ничего, ничего...
И упал мертвый.
Кочегар как-то упал, и ему отрезало ногу.
Машинист и кочегар погибли, налетев на разобранный мост. Кочегара убило на месте, а машинисту, тому, что так весело врал в харчевне, обварило паром лицо и руки.
Когда он слезал с паровоза, держась за стойку, кожа с руки, как перчатка, осталась на стойке.
Пока везли его в больницу, пока помощь подали... После трех дней сплошного мученья он умер, оставив большую семью.
Другой машинист... Но что перечислять? Чуть не каждый день читаем мы об этом в газетах.
Наше прощание с Григорьевым было очень трогательное. Провожать меня собрались все свободные кочегары и машинисты. Я угостил их, мы выпили, расцеловались, и я уехал.
- Когда будете большим человеком, не забывайте нас, маленьких людей.
- И бог вас не забудет!
- Не забывайте же, что хлеб не на белой земле растет!
- И будьте всегда и прежде всего человеком!
Так провожали меня и кричали мне, когда отходил поезд, и изо всех окон смотрели пассажиры с недоумевающими лицами: о чем кричит вся эта пьяная компания черных людей, место которых где угодно, но не на глазах чистой публики?
VII
Прошло несколько лет. Я был назначен строителем части строившейся линии. Было утро. По обыкновению, толпа народа находилась в конторе, и я, весь поглощенный работой, спешил удовлетворить нужды всех этих людей.
- Ну, здравствуйте, — раздался вдруг грубый голос надо мной, и черная мозолистая рука бесцеремонно протянулась ко мне.
Я уже успел со дней моей практики отвыкнуть и не жал больше таких рук.
Этот грубый перерыв моей работы, эта нахально протянутая рука покоробили меня, и я поднял раздраженные глаза.
Передо мной стоял сутуловатый, угрюмый, грязный господин с большим красным носом.
Спокойным, слегка пренебрежительным голосом он спросил:
- Не узнали?
Узнал, конечно, Григорьев.
Такой же, хотя постарел и горечь в лице.
- Как поживаете?
- Да вот нос... все лупится.
- Как вы попали сюда? Как меня разыскали?
- Услыхал и приехал. Разыщешь, когда есть нечего: выгнали меня из кочегаров, — больше не надо, — ученые пошли...
- Найдем работу.
И я устроил Григорьева машинистом при водокачке.
Он поселился в чистом маленьком домике. С ним поселилась его дочь, красавица Маруся, с черными, как бриллианты, глазами. Ее муж поселился, молодой красивый кузнец.
Проезжая, я иногда видел ее на пороге с ребенком на руках и вспоминал празднованье рожденья. Тогда я мечтал: может быть, в жизни я встречусь и женюсь на ней. Потом я смеялся, вспоминая свои юношеские мечты.
А теперь я жалел и завидовал счастливцу кузнецу.
VIII
Григорьев вот какую услугу оказал мне.
В один прекрасный день все кочегары и машинисты не вышли на работу, заявив, что против всех законов их заставляют работать вдвое.
Я телеграфировал своему начальству и получил распоряжение немедленно рассчитать всех.
Не берусь судить, чем бы это кончилось, если б не Григорьев.
Во главе всех Григорьев говорил мне:
- Мы не спорить пришли с вами, и нового вам говорить нам нечего: помните тогда на паровозе, когда спали мы оба? И здесь люди до одурения дошли, — лошадь и та отдыхает. Вам говорить мне не надо: мы ведь люди, и вы знаете это.
И Маруся стояла тут же с другими, с ребенком на руках; ее глаза смотрели в мои, — спокойные, полные доверия, полные сознания своей правоты, не допускающие и мысли, чтобы не сознавал этого и я.
А вызванные войска уже шли, и кто знает? Может быть, завтра...
- Господа, я не хозяин, что я могу сделать?
И опять говорит Григорьев:
- А вы поезжайте к своему начальству и расскажите им все, что вы знаете.
- Хорошо, я поеду.
И, обращаясь к толпе, Григорьев заговорил:
- Ну, я же говорил вам. Дело теперь в шляпе... Человек на своей шкуре испытал. А покамест ездит, станем на работу и будем ждать его приезда.
На том и порешили, и я уехал.
Я мало надеялся на успех, и большого труда стоило снять вопрос с почвы потачки и перенести его на почву денежной выгоды: от переутомления происходит столько несчастий, столько материальных потерь, что выгоднее, увеличив штат, уменьшить работу дня.
Мне помог начальник тракции, подтвердив цифрами мою мысль.
И убедили начальство.
- Но как там в Петербурге, в Управлении, на это посмотрят?
Начальник тракции угрюмо заметил:
- И там люди, и их же карманы оберегаем.
- Ну, что будет.
Я дал телеграмму своему помощнику и, счастливый, возвратился назад. О, какая толпа меня встретила! Какую речь сказали!

Произведение из сборника «Барбос и Жулька», (рассказы о собаках), серия «Школьная библиотека», 2005 г.В сборник вошли рассказы писателей XIX–XX вв. о собаках — верных друзьях человека: «Каштанка» А. Чехова, «Барбос и Жулька» А. Куприна, «Мой Марс» И. Шмелева, «Дружище Тобик» К. Паустовского, «Джек» Г. Скребицкого, «Алый» Ю. Коваля и др.
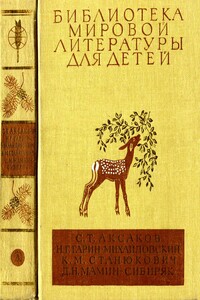
В том включены избранные произведения русских писателей-классиков — С. Т. Аксакова, Н. Г. Гарина-Михайловского, К. М. Станюковича, Д. Н. Мамина-Сибиряка.
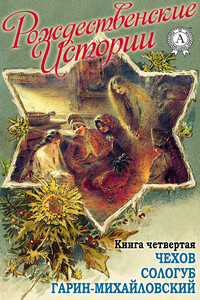
Четвертая книга из серии «Рождественские истории» познакомит вас с творениями русских писателей – Антоном Чеховым, Федором Сологубом и Николаем Гарином-Михайловским. Рождественскими мотивами богаты рассказы Чехова, в которых он в легкой форме пишет о детстве и о семье. Более тяжелые и философские темы в рассказах «накануне Рождества» затрагивают знаменитый русский символист Сологуб, а также писатель и по совместительству строитель железных дорог Гарин-Михайловский. «Рождественские истории» – серия из 7 книг, в которых вы прочитаете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

Мифы и легенды народов мира — величайшее культурное наследие человечества, интерес к которому не угасает на протяжении многих столетий. И не только потому, что они сами по себе — шедевры человеческого гения, собранные и обобщенные многими поколениями великих поэтов, писателей, мыслителей. Знание этих легенд и мифов дает ключ к пониманию поэзии Гёте и Пушкина, драматургии Шекспира и Шиллера, живописи Рубенса и Тициана Брюллова и Боттичелли. Настоящее издание — это попытка дать возможность читателю в наиболее полном, литературном изложении ознакомиться с историей и культурой многочисленных племен и народов, населявших в древности все континенты нашей планеты. В данном томе представлены верования и легенды народов Восточной и Центральной Азии, чья мифология во все времена была окутана завесой тайны.

«Многое изменилось на селе за эти восемьдесят лет, что прожила на свете бабушка Степанида. Все, кто был ей близок, кто знал ее радости, знал ее горе, – все уже в могиле…».

«Это было очень давно.По улицам одного большого южного города, амфитеатром спускающегося к синему беспредельному морю, изо дня в день, лето и зиму, бродила странная фигура сумасшедшего…».
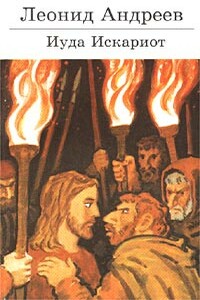
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.