На практике - [6]
- Ну, будет, садитесь!
Паровоз прибавляет ходу, я вскакиваю, и мы едем.
Темная ночь охватывает нас со всех сторон, брызги дождя летят в лицо, ветер рвет шапку, раздувает блузу, мы оба, высунувшись, во все глаза смотрим вперед в непроглядную темь.
Смотрим, чтобы вовремя увидеть неисправность пути, лежащий на рельсах какой-нибудь предмет, переходящую через путь лошадь, человека.
И вдруг из-за крутого закругления перед мостом фонари паровоза освещают дикую, полную ужаса картину: табун спутанных лошадей, бешено скачущих по полотну.
И в одно мгновение все остальное: Григорьев открывает полный регулятор, и мы на полном ходу врезываемся в эту живую массу, — впечатление, точно поплыли вдруг мы, с моста летят лошади, треск, и уже опять мы несемся, охваченные снова только безмолвием и мраком ночи.
Григорьев крестится, я все еще держусь двумя руками за стойку, точно это помогло бы чему-нибудь, если бы и мы слетели туда вниз вместе с лошадьми.
- Счастье, что еще с разбега, да регулятор успел открыть... А вот, если бы шпалы лежали на пути, — тут что тише проскочишь, то меньше беды. А лошади там, коровы, люди - уж если нельзя остановить, что резче, то лучше... Беда что было бы: десять сажен мост, а поезд воинский.
Приехав на станцию, мы заявили и нас осмотрели. Колеса паровоза были в крови, в волосах от грив и хвостов, оторванная голова лошади так и осталась и страшно торчала из-за колес паровоза.
- Вот так крещение, — повторял, осматривая, Григорьев.
Я ходил, смотрел и думал: мыть-то, мыть сколько придется, — все три часа отдыха в оборотном депо уйдут на это.
И обычным путем пошла наша линейная работа.
Приедешь на оборотное депо, и через сутки дежурство. То есть время отдыха стоять под парами, всегда готовые делать маневры.
Движение усиленное, и маневров много. Приедешь домой, — двенадцать часов отдыху - и назад. Когда движение усилилось, мы отдыхали шесть часов и не в очередь стояли на парах.
Однажды, когда мы пришли с поездом на оборотное депо, оказалось, что очередной паровоз испортился, и нас без передышки погнали дальше...
Мы прошли еще сто пятьдесят верст. Там нас заставили делать маневры и погнали назад в наше оборотное депо. А оттуда, без всякого отдыха, опять мы поехали с новым поездом домой.
Шли третьи сутки работы без остановки, и у меня было впечатление, что я давно уже вылез из своего тела, — я его совершенно не чувствовал, кроме глаз, глаза оставались телесными, но ничего больше не видели, — что-то их выпячивало изнутри, что-то тяжелое налезало сверху, такое тяжелое, что сил уже не было удерживать его.
Кончилось тем, что и Григорьев и я стоя заснули.
Так, в сонном виде, мы проскочили две станции. Нам кричали, бросали камнями, перебили все стекла в будке, но мы ничего не слыхали.
На третьей станции наконец смельчак-составитель вскочил на полном ходу на паровоз и привел к жизни две застывшие, как статуи, фигуры.
Мы возвратились на станцию, где, признав нас невменяемыми, ссадили нас, отправив поезд с экстренно вызванными машинистом и кочегаром.
Чтобы проехать две станции, надо было и воду качать, и подбрасывать от поры до времени уголь. Очевидно, значит, Григорьев иногда просыпался, подбрасывал уголь, качал воду.
Что до меня, то, держась двумя руками за стойку, я стоял и спал как убитый.
Все дело кончилось тем, что Григорьева, снисходя к усталости его, оштрафовали на двадцать пять рублей, а меня на десять.
VI
Конец практики.
Я в вагоне, еду обратно в свой институт, опять одетый в форму, умытый, причесанный, но еще с черным цветом лица. Микроскопические крупинки угля забились в кожу, проникли в поры, и, как говорят опытные люди, мой обычный цвет лица возвратится ко мне не раньше полугода.
Аттестат, о котором я мечтал вначале, я не взял, но я вез с собой более ценное: я узнал, что такое труд, и я вез масштаб этого труда. Мерило на всю дальнейшую жизнь.
И когда в жизни находили иногда, что я могу напряженно работать, я думал: чего стоит всякая другая работа в сравнении с каторжной работой тех неведомых тружеников?
Чего стоит война с ее героями, усилиями в течение полугода, года в сравнении с этой постоянной войной, постоянной опасностью, напряженнейшей работой в мире?
Пятнадцать лет такой работы, и машина человеческого организма вся разбита: от постоянного стоянья и тряски ноги отказываются служить; слепнут глаза от постоянного контраста белого огня топки и темной ночи; ревматизм развивается от резкого перехода от жара котла к стуже снаружи. И никуда не годный работник выбрасывается без пенсии, без всяких средств, с отобранным в штраф последним жалованьем, выбрасывается на улицу, на церковную паперть.
И, завидуя, вспоминает такой выброшенный товарищей: убитых, изувеченных, с отрезанными руками, ногами. Их семьям или им самим после торга и всяких угроз дают тысячу, другую. Вспоминает и горько плачется на свою бесталанную долю.
Может быть, когда-нибудь терпеливый статистик подсчитает, какой процент убитых и раненых на железных дорогах приходится на всех этих машинистов, кочегаров, составителей, сцепщиков, кондукторов.
О, наверно, ни одна война не даст такого процента!

Произведение из сборника «Барбос и Жулька», (рассказы о собаках), серия «Школьная библиотека», 2005 г.В сборник вошли рассказы писателей XIX–XX вв. о собаках — верных друзьях человека: «Каштанка» А. Чехова, «Барбос и Жулька» А. Куприна, «Мой Марс» И. Шмелева, «Дружище Тобик» К. Паустовского, «Джек» Г. Скребицкого, «Алый» Ю. Коваля и др.
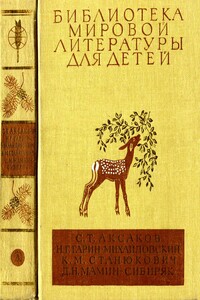
В том включены избранные произведения русских писателей-классиков — С. Т. Аксакова, Н. Г. Гарина-Михайловского, К. М. Станюковича, Д. Н. Мамина-Сибиряка.
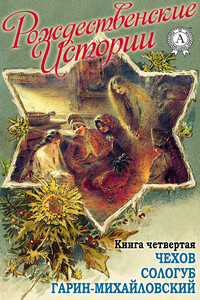
Четвертая книга из серии «Рождественские истории» познакомит вас с творениями русских писателей – Антоном Чеховым, Федором Сологубом и Николаем Гарином-Михайловским. Рождественскими мотивами богаты рассказы Чехова, в которых он в легкой форме пишет о детстве и о семье. Более тяжелые и философские темы в рассказах «накануне Рождества» затрагивают знаменитый русский символист Сологуб, а также писатель и по совместительству строитель железных дорог Гарин-Михайловский. «Рождественские истории» – серия из 7 книг, в которых вы прочитаете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

Мифы и легенды народов мира — величайшее культурное наследие человечества, интерес к которому не угасает на протяжении многих столетий. И не только потому, что они сами по себе — шедевры человеческого гения, собранные и обобщенные многими поколениями великих поэтов, писателей, мыслителей. Знание этих легенд и мифов дает ключ к пониманию поэзии Гёте и Пушкина, драматургии Шекспира и Шиллера, живописи Рубенса и Тициана Брюллова и Боттичелли. Настоящее издание — это попытка дать возможность читателю в наиболее полном, литературном изложении ознакомиться с историей и культурой многочисленных племен и народов, населявших в древности все континенты нашей планеты. В данном томе представлены верования и легенды народов Восточной и Центральной Азии, чья мифология во все времена была окутана завесой тайны.

«Многое изменилось на селе за эти восемьдесят лет, что прожила на свете бабушка Степанида. Все, кто был ей близок, кто знал ее радости, знал ее горе, – все уже в могиле…».

«Это было очень давно.По улицам одного большого южного города, амфитеатром спускающегося к синему беспредельному морю, изо дня в день, лето и зиму, бродила странная фигура сумасшедшего…».
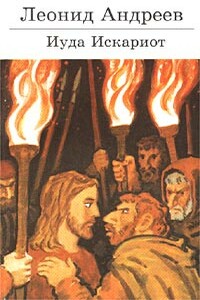
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.