На повороте. Жизнеописание - [29]
Мучительная процедура проводилась с издевательской торжественностью, пятьдесят или шестьдесят мальчиков, задыхаясь от восторга и ужаса, следили за спектаклем. Жалобный плач злоумышленника начинался еще прежде, чем падал первый удар: он корчился и стонал, пока господин учитель еще только в воздухе щелкал своим орудием пыток, словно желая проверить гибкость тонкой бамбуковой трости. А когда затем уже со свистом опускались удары, рыдание перерастало в истерически-конвульсивное. После этого наступал трагикомический эпилог, и он тоже относился к ритуалу. От жертвы ожидалось, чтобы она еще некоторое время попрыгала перед кафедрой, потирая при этом заднее место… Если попадался мало-мальски артистически способный мальчик, то он, это почти само собой разумелось, развлекал соучеников наглядным описанием своих мук. «Моя задница горит адским огнем», — рассказывал он содрогающемуся классу. Учитель поглядывал, ухмыляясь, чтобы наконец повелительным жестом положить конец спектаклю. «Теперь хватит, — решал он удовлетворенно, словно лев после кровавой трапезы. — Можешь отправляться на свое место».
Я часто размышлял, действительно ли наказание приносит такую ужасную боль, как об этом свидетельствовала демонстрация жертвы. Нельзя отмахнуться от подозрения, что наказанный драматически преувеличивал свои боли либо для того, чтобы побудить учителя к скорейшему прекращению, либо лишь по славной традиции, чтобы разыграть перед товарищами впечатляющий спектакль. Но даже если наказание было действительно таким болезненным, как это демонстрировалось, быть свидетелем этого было еще хуже. Мое сердце останавливалось при каждом низвергающемся со свистом ударе, неприятие, да и мой ужас росли с каждым криком, который издавал мученик. Как охотно я бы сам однажды вытерпел унизительное наказание, вместо того чтобы только в воображении переживать страдания других. Между прочим, от физического надругательства я до сего дня был избавлен. Мне ни разу не была предоставлена скамья пыток; ни разу не познал я на собственном опыте запаха трости. Таинственно защищенный славным или позорным табу «неприкосновенный», я все глубже и основательнее узнавал лишь одну муку — сострадание.
Когда прочитаны вечерние молитвы и затемнены спальни, сладко и мучительно думать обо всем этом кровавом действе там далеко, в траншеях. Как должно было быть ужасно, когда сотни тысяч русских умирали в тех гибельных болотах, в трясину которых их завлекла искусная военная хитрость маршала Гинденбурга>{41}. Засыпая, я слышал глухой рев их ярости, их предсмертную агонию. Или я пытался представить себе изощренные пытки, которым дикие австралийцы подвергали, наверное, нашего бедного дядю Петера. Вероятно, ему было так же страшно, как достойным сожаления неграм в истории о хижине дяди Тома. Придется ли мне на собственном теле испытать подобные страдания? Бедный дядя Петер! Бедные русские! Бедный генерал Гинденбург! Ясно, что нелегко было совершать столь ужасные дела. Бедные генералы, которым пришлось стать бесчеловечными из профессионального долга и патриотической убежденности! Бедные солдаты, которыми пожертвовали бесчеловечные генералы! Мое сердце до краев наполнялось состраданием. Уже в полусне я присоединялся к беспомощным, нерасторопным русским, гонимым через австралийские джунгли бессердечным маршалом фон Гинденбургом, который в свою очередь проливал горючие слезы по поводу собственной жестокости. Ролью, отводимой мне самому в этой сцене ужасов, была роль смелого брата милосердия, который спасает жизнь какому-нибудь солдату — все равно, врагу или союзнику, — и в конце получает Железный крест с двойными рубинами в награду за свой героизм.
Мое рвение участвовать в кровавых событиях не имело ничего общего с патриотизмом или с честолюбием. Другие импульсы побуждали меня: любопытство, мазохизм, сострадание, тщеславие и страх. В этом комплексе чувств на самом деле определяющим фактором должен был быть страх. Не то чтобы я находил ужасным пожертвовать собой ради великого дела, напротив, подобное мученичество казалось мне изысканным и достойным того, чтобы его добиваться, огромным, захватывающим, горько-сладостным блаженством. Было лишь нечто, перед чем я действительно испытывал страх, была лишь одна опасность, от которой меня охватывал ужас: быть исключенным из коллективной авантюры, не принять участие в общем переживании. Нет более унизительной, более печальной роли, чем роль стороннего. В человеке так силен стадный инстинкт, что он предпочтет любую боль мукам одиночества. То был глубокий страх перед моральной и физической изоляцией, он вдохновлял мои воинственные грезы. Я фантазировал о героических братаниях, так как в глубине души осознавал себя предназначенным для испытаний совсем другого рода. В детских мечтах я стремился отречься от истинного закона моей натуры, который всегда запрещает мне принадлежать к достойному сожаления и зависти большинству.
Может ли определенная психологическая предрасположенность привести к органическим нарушениям? Есть ли причинная связь между чуть ли не смертельной болезнью, которую я перенес в 1916 году, и национальным бедствием того исторического часа? Крылья смерти, коснувшиеся столь многих моих незнакомых старших братьев, бросили тень и на мой детский лоб.
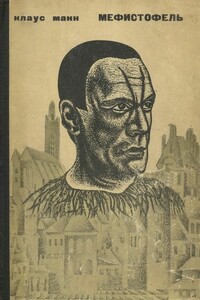
В основе сюжета лежит история духовной деградации друга молодости Клауса Манна – знаменитого актёра Густафа Грюндгенса. Неуёмное честолюбие подвигло его на сотрудничество с властью, сделавшей его директором Государственного театра в Берлине.Актёр из Гамбурга Хендрик Хофген честолюбив, талантлив, полон свежих идей. Но его имя даже не могут правильно прочитать на афишах. Он даёт себе клятву, во что бы то ни стало добиться славы, денег и признания. За вожделенный успех он продаёт свою душу, но не Дьяволу, а нацистам.
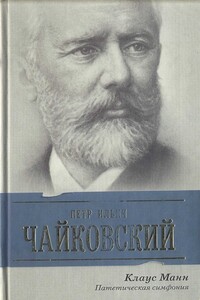
Клаус Манн — немецкий писатель, сын Нобелевского лауреата Томаса Манна, человек трагической судьбы — написал роман, который, несомненно, заинтересует не только ценителей музыки и творчества Чайковского, но и любителей качественной литературы. Это не просто биография, это роман, где Манн рисует живой и трогательный образ Чайковского-человека, раскрывая перед читателем мир его личных и творческих переживаний, мир одиночества, сомнений и страданий. В романе отражены сложные отношения композитора с коллегами, с обществом, с членами семьи, его впечатления от многочисленных поездок и воспоминания детства.

Мария Михайловна Левис (1890–1991), родившаяся в интеллигентной еврейской семье в Петербурге, получившая историческое образование на Бестужевских курсах, — свидетельница и участница многих потрясений и событий XX века: от Первой русской революции 1905 года до репрессий 1930-х годов и блокады Ленинграда. Однако «необычайная эпоха», как назвала ее сама Мария Михайловна, — не только войны и, пожалуй, не столько они, сколько мир, а с ним путешествия, дружбы, встречи с теми, чьи имена сегодня хорошо известны (Г.

Один из величайших ученых XX века Николай Вавилов мечтал покончить с голодом в мире, но в 1943 г. сам умер от голода в саратовской тюрьме. Пионер отечественной генетики, неутомимый и неунывающий охотник за растениями, стал жертвой идеологизации сталинской науки. Не пасовавший ни перед научными трудностями, ни перед сложнейшими экспедициями в самые дикие уголки Земли, Николай Вавилов не смог ничего противопоставить напору циничного демагога- конъюнктурщика Трофима Лысенко. Чистка генетиков отбросила отечественную науку на целое поколение назад и нанесла стране огромный вред. Воссоздавая историю того, как величайшая гуманитарная миссия привела Николая Вавилова к голодной смерти, Питер Прингл опирался на недавно открытые архивные документы, личную и официальную переписку, яркие отчеты об экспедициях, ранее не публиковавшиеся семейные письма и дневники, а также воспоминания очевидцев.

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.

Автобиография выдающегося немецкого философа Соломона Маймона (1753–1800) является поистине уникальным сочинением, которому, по общему мнению исследователей, нет равных в европейской мемуарной литературе второй половины XVIII в. Проделав самостоятельный путь из польского местечка до Берлина, от подающего великие надежды молодого талмудиста до философа, сподвижника Иоганна Фихте и Иммануила Канта, Маймон оставил, помимо большого философского наследия, удивительные воспоминания, которые не только стали важнейшим документом в изучении быта и нравов Польши и евреев Восточной Европы, но и являются без преувеличения гимном Просвещению и силе человеческого духа.Данной «Автобиографией» открывается книжная серия «Наследие Соломона Маймона», цель которой — ознакомление русскоязычных читателей с его творчеством.