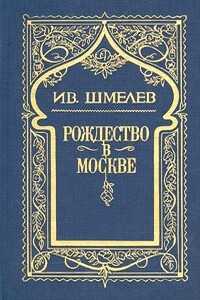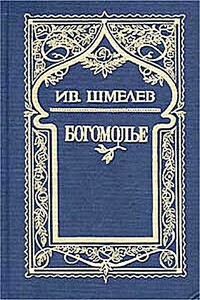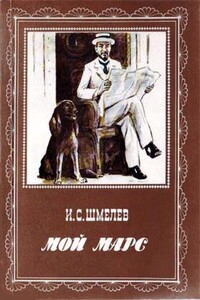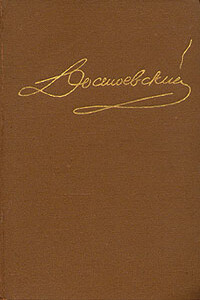Здесь, в Европе, я несколько отдышался и получил как бы душевное разряжение… Ну, да… именно разряжение. Были во мне заряды — теперь разряжен! Но чем же мне зарядиться снова? И надо ли? Что-то я и своего голоса не слышу, и говорю и кричу как в вату, — как на пеньках?.. Что-то я ничего не вижу, и плывут надо мною тучи, и в ветре сеется пустота…
Люди?.. Люди — все тот же штампик, попроще и попрактичней былой нашей интеллигенции, и — пожестче. «Больные» вопросы у них как бы уже решены и сданы на хранение. Кто-то, понятно, еще решает, еще продолжает вопрошать океан и звезды, как гейневский дурак, но, во всяком случае, шуму нет, и большинствоподвело итоги — или и без этого обошлось — и играет в жизни пестро, по маленькой. Не то чтобы все преферансику предались, а… решающие невидны в разливанном море суетливой «культурности».
У нас как было? Равнинность, равнинность, а на ней как бы… Гималаи! Мы же интенсивнейшей, интеллектуальной жизнью жили!.. Даже самый захудалый интеллигентик, которого судьба в какой-нибудь Глухо-Глазов закинула, — и тот «не отстать» стремился. Или спивался с отчаяния, что попал в «равнинность»… кричал мучительно, что среда заела, н совесть его язвила! Ответственность свою чувствовал. Этого отрицать нельзя. И «Гималаи» были! Правда, на болотине они стояли, каким-то чудом… и тарарахнули. Равнине, понятно, недоступны, но и не заслонялись, и потому всегда видно: сторожат, есть! костры-то на них горят… «огни»-то! А здесь… прошел плуг общеполезной и общедоступной культурности, и все имеют хотя бы карманное понятие о нравах человека и гражданина, об электрическом освещении, о Боге, о сберегательных кассах… — и каждый считает себя если не Гималаями, то хотя бы горкой, и из-за этой-то «Воробьевки» уже не видно гор настоящих, хоть и есть где-нибудь они. Но уже не дают они горного тона всхолмленному пейзажу. А у нас иной галстука не умел как следует завязать и от гречихи пшеницу не отличал, но зато мог из Ницше целыми страницами охватать, а историю революций!.. И чудесного было много, знамённого!..
Нет, не люди… От прошлого получаю освежающее забвение, встречая любимых по хранилищам и музеям. Ну, конечно, здесь пока и не трогают за штаны.
Но все возможно… Когда-то ведь и у нас это преимущество имелось.
Вы все поглядываете, будто сказать хотите:
«Да как же вас там отделали! Логику подменили, мутные глаза вставили, даже и душу подсушили! Гимн равнинно-гималайному прошлому поете?! А величайшие ценности хотя и медленно, но все же вздымающегося к „Гималаям“ человечества?! А блага личности?! Все сознали! В Англии вон шестидесятилетние сколько-то шиллингов пенсии получают! Все предрассудки брошены, небо раскрыто и протокол составлен, что, кроме звездной туманности, ничего подозрительного не найдено… всякий на велосипеде ездит, а в Америке и на собственном даже автомобиле, — но это уж идеал! — все по-модному галстуки завязать умеют, всякий и в президенты может, если выйдет арифметически, а кинематографы и газеты вливают мощные волны знаний и переживаний в массы!..»
Согласен, что глазной операции подвергся и подменен. Но и я вас спрошу:
«Но почему мне такие заумные сны снятся? А они мне и там начинали сниться — и в первый раз, после чудесного случая на пенькax, — и здесь, воочию?»
Но о снах я потом поведаю, а теперь — другое. Теперь — отвечу:
«Если я весь так подменен и даже вывернут наизнанку, то почему же создатели „величайших ценностей“, испытывающие тревогу, когда собачонку несчастную на физический опыт тащат, за мир всего мира и за братство народов ратующие, — а такие гиганты есть и носятся в хлопотах по всей Европе, освежая спертую атмосферу, — и все охранители антиков, до вазы царя микенского, оберегающие все, до цапинки, обеспокоенные, когда гобеленчик украдут, и всегда настороже, как бы чего не подменили… — как же все эти „охраняющие“ допустили, чтобы не только меня, тоже оберегателя антиков, так подменили, а чтобы… целое великое царство подменили, хотя, правда, и не античное?! И не только допускают, а и… И чтобы даже и… человека подменили?!..»