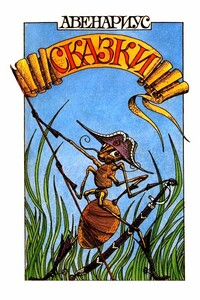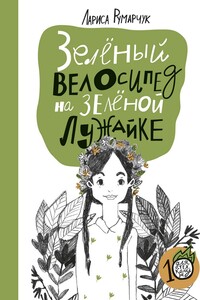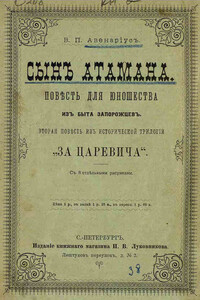Всех более, однако, славила ее одна почтенная старушка, Маланья Седельникова, мать того молодого стрельца-знаменщика, Прокопа Седельникова, которого (как припомнят, может быть, читатели) Курбский нашел умирающим в лазарете под Новгородом-Северским. По пути из Москвы в Марусино, при остановке в одном селе, Курбский случайно услышал название этого села — Вяземы. Тут, как воочию, предстал перед ним опять распростертый на соломе, умирающий стрелец, живо вспомнилась его предсмертная просьба: буде ему, Курбскому, доведется раз быть под Москвою, в селе Вяземах, то навестил бы его мать-старуху, поклонился бы ей от имени сына, но, Боже упаси, не говорил бы ей, как он, бедняга, мучился перед кончиной, а сказал бы только, что он пал в честном бою на поле брани. И Курбский исполнил теперь его просьбу. Зашедшая в лачугу к старушке вместе с мужем Маруся так ее обласкала, что сразу заворожила, заполонила ее скорбящее материнское сердце. Узнав, что у одинокой бедной Маланьи нет в деревне никакой родни, Курбские тут же выкупили ее у ее господ и взяли с собой к себе в Марусино. Когда же ей здесь была еще предоставлена почетная должность птичницы — старушка про своего «ангела Небесного» княгинюшку говорила уже не иначе, как с благоговейным восторгом.
О том, что между тем происходило в Москве, до Курбских доходили, конечно слухи, но слухи отрывочные и не всегда достоверные. Так слышали они, например, что на место прежнего мрачного Борисова дворца, срытого до основания, возводился новый, иноземного образца, пышный и светлый дворец, в котором одна половина назначается для самого царя, а другая для его нареченной невесты, будущей царицы Марины; что опальные при Годунове бояре Нагие и Романовы возвращены в Москву, причем Федор Никитич Романов, принявший в монашестве имя Филарета, отказался снять клобук и возведен в митрополиты ростовские и ярославские; что злейшие враги царя, родственники Годунова, не только помилованы, но некоторые из них пожалованы даже воеводами, правда, в Сибири и в иных отдаленных местах; что князь Василий Шуйский затеял было смуту и был приговорен за то к наказанию плетьми, положил уже голову на плаху, как вдруг бежит какой-то шустрый человечек в польской одежде, машет платком и кричит палачу: «Стой! государь его прощает».
— Пан Бучинский! — догадался Курбский при рассказе об этом. — Уж очень он сердоболен, верно уговорил государя простить этого лукавца. Как бы им обоим потом не раскаяться!
Опасение Курбского впоследствии, действительно оправдалось.
Под Рождество в Марусино прибыли из Москвы дорогие гости: младший дядя молодой княгини, Степан Маркович Биркин, и «благоверная» его старшего брата, Платонида Кузьминишна; самого Ивана Марковича задержали его торговые дела, которые обещали оживиться с воцарением Димитрия.
Первым делом, разумеется, Курбский должен был показать гостям свои угодья, а Маруся — свое домашнее хозяйство.
— Домостроительница, что и говорить! — чистосердечно похвалила ее испытанная «домостроительница» — тетка, — что было для племянницы, конечно, маслом по сердцу.
— А теперича, невестушка, давай-ка выкладывать им наши столичные новости, — сказал Степан Маркович, — сперва ты, а там и я.
— Да как же я раньше-то тебя? — удивилась Платонида Кузьминишна.
— Ну, ну, не жеманься: все равно ведь всякое слово у меня изо рта вынешь. Только чур, матушка, потом меня уже не перебивать! Отзвонишь — и с колокольни долой.
И принялась она «звонить». Благодаря своим постоянным щедрым приношениям в пользу разных церквей, она пользовалась особенной протекцией духовенства. Таким образом, ей, не в пример других, удалось попасть в Успенский собор на священное коронование Димитрия, и она теперь просто слов не находила для описания всего благолепия этого торжественного обряда. Весь путь ведь от дворца до собора был устлан бархатным, малинового цвета ковром, затканным золотом; сам царь был в порфире, усеянной самоцветными каменьями, от которых в глазах так вот и рябило. А сколько умиленных слез она пролила, когда молодой царь, подойдя к алтарю, вопреки обычаю, но от полноты, знать, наболевшего сердца, сказал речь да поведал всенародно обо всем, что претерпел он, горемычный, и о своем чудесном спасении. Слушаешь — не наслушаешься, а слеза так и бьет, так и бьет!
Больно было ей, правда, вначале, что обряд совершал не старый патриарх Иов, которого вся Москва так чтила (за преданность Годуновым его, вишь, сместили), а вновь возведенный в патриарший сан архиепископ рязанский Игнатий; но и этот, что ни говори, молитвил уставно, а когда он, помазав царя священным миром, вручил ему еще венец царский, скипетр, державу и возвел его на прародительский престол, когда затем сам он, патриарх, а за ним все священство и высшее боярство с земными поклонами стали прикладываться к руке венценосного царя, — ну, тут уже с радости и восторга просто взвыла и света не взвидела!
— Значит, государь принял свой царский венец по строгому православному чину? — сказал Курбский, вздохнув с облегчением. — Патеров польских, разумеется, не было при том?
— Ох, уж эти мне патеры! В храм наш православный их, нехристей, знамо, не пустили. А все же, беда с ними, горе одно! Власть забрали непомерную: отвели им хоромы князя Глинского; завели они там свое собственное еретичное богослужение, да давай оттуда подводить подкопы под наше духовенство.