На грани тьмы и света - [3]
Начальные опыты Прасолова (первое стихотворение датировано 1949 годом) — это скорее заявки на приобщение к официальному литературному потоку, чем оригинальное видение мира. В его «детском солнечном государстве» было все, что мы читали в газетах, видели на экране и плакатах. Он хотел бы видеть мир устоявшимся, незыблемым, как советская держава, победившая в войне. Первооснова этого мира — малая родина, деревня, колхоз с его обильными урожаями, песнями и счастливой жизнью. Этот сельский мир по-фольклорному условен и по-советски мифологичен. Себя он видит поэтом-песенником в колхозном стане, воспевающим славные дела и счастливую жизнь земляков.
Однако уже в начале 50-х годов Прасолов начинает томиться в этом песенном плену, в этом замкнутом круге, пытается прорваться к себе самому и к миру реальному. Такие возможности предоставляла ему натурфилософская лирика, в которой вероятнее быть свободным от социального заказа, от пресловутой бесконфликтности.
Легко заметить, как настойчиво рвется он из малого мира, из четырехстенного уюта в большой мир, чтобы овладеть им, найти себе соответствия. Овладеть не изображением его, не повествованиями о делах и событиях, а мыслью и переживанием, языком лирических формул. На этом «высоком курсе» у него были проверенные ориентиры: Боратынский, Лермонтов, Тютчев, Блок, Заболоцкий (не исключая Кольцова и Никитина). Для подобной высоты нужны мощные крылья и насыщенный воздух культуры, чего не хватало уже Заболоцкому, а тем более Прасолову: десятилетия «организованного упрощения культуры» подрубили крылья и разрядили саму культурную атмосферу. Многие советские поэты могли бы сказать вослед Заболоцкому: «Я воспитан природой суровой». И это «воспитание» приучало видеть мир без полутонов — в его самых сильных и определяющих красках. Подобием внешнему миру становилось и сердце поэта, о чем говорят строки Прасолова:
А если и назвать «нищетой», то она невольная, навязанная как реалиями XX века вообще, так и пореволюционной советской действительностью. Ровесник и земляк Прасолова А. Жигулин, пройдя лагерный курс «воспитания» (как и Заболоцкий), признавался: сама реальность внушала, «что мир из черного и белого, по существу, и состоит». Прасолов был по другую сторону лагерной ограды, но не миновал других оград и испытаний.
Два глобальных и грозных явления питают зрелую лирику Прасолова: война и технический прогресс. Потрясенный созидающей и одновременно губительной мощью человека, он будет до конца своих дней распознавать и примирять эти противоначала, в немыслимом единстве которых — драма мироустройства и самого человеческого существа. Эта антиномичность распространится буквально на все, к чему ни прикоснется его слово: быт и бытие, прошлое и настоящее, земля и зенит, красота и уродство, любовь и похоть, слепота и озарение, высота и бездна и т. п. Постоянно, рискуя быть однообразным, он возвращается к главной своей мысли — и эта мысль о расколотости мира, о гибельном противостоянии полюсов. Что с нами происходит и где мы окажемся завтра? Мир перед взлетом иль перед гибелью своей? Потеряем ли мы все земные дороги или вновь обретем их в мирозданье? Для него мир не божественная гармония, а грохочущий сосуд борьбы природных и общественных стихий. Кто может управлять ими? Кто вразумит этот клубящийся хаос? И как поведет себя покоренная природа, та самая гора, из которой вырвали нутро, словно довременный плод? А ведь старались пользы ради…
Контрастные пары, или концептуальные антиномии, которых у него предостаточно, — не просто поэтический прием, это стало творческим методом Прасолова, способом познания мира в его новом состоянии. И чем резче, чем наступательнее проявляет себя один из полюсов, тем воинственнее и грознее отвечает ему другой. Подобное можно увидеть не только в стихах о войне или в картинах природных катастроф, но даже в самых «мирных» пейзажах.
Все у него выстраивается по закону контраста: если перед нами непроглядный мрак, то он должен быть «лучом неистовым расколот»; если прошлое — беспросветная нищета и горе, то настоящее — радость и счастье; если измятый рупор, то из него льется чудная музыка; если цветут сады, то их обожгут морозы; если идет колонна могучих машин, то она раздавит несчастную собаку и т. п. От этих резких противодействий мир как бы перекашивается, смещается со своей оси и обретает какое-то зыбкое, крайне ненадежное равновесие. Нет на земле, нет в этом мире «незыблемых гарантий», все текуче и взрывчато, все может измениться на глазах. Умей жить так, «чтоб с каждым утром заново родиться». Всеми своими формулами-антиномиями Прасолов ведет яростный спор с обезличенным советским «инкубатором», с бездуховностью и застоем, с мифом о конечности истории, на радость остановившейся в развитом социализме. Современники этого в нем не увидели, однако тут кроется главная причина его самоубийства: не одолел «мертвую жизнь».
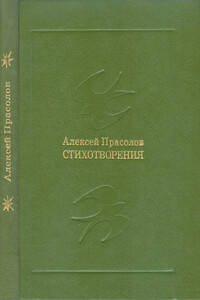
В книгу избранных стихотворений поэта Алексея Прасолова (1930—1972) вошли лучшие произведения из четырех его прижизненных сборников, а также из посмертно изданной книги «Осенний свет» (Воронеж, 1976) и публикаций последнего времени.

Прасолов Алексей Тимофеевич родился 13 октября 1930 года в селе Ивановка ныне Россошанского района Воронежской области в крестьянской семье. Отец — Прасолов Тимофей Григорьевич оставил семью, когда Алексею было около пяти лет. Мать — Вера Ивановна — вместе с сыном переехала в село Морозовку того же района. Здесь прошли детство и отрочество поэта, которые выпали на тяжёлое военное и послевоенное время.В 1947-51 годах учился в Россошанском педагогическом училище. После его окончания преподавал русский язык и литературу в сельской школе.Первые журналистские заметки и стихи публиковал в Россошанской районной газете, куда возвращался не раз.