Мыс Бурь - [72]
Соня отвернулась от Фельтмана.
— Я не понимаю, — сказала она, — почему вы это спрашиваете? У меня нет мнения на этот счет.
Фельтман откинулся в тень.
— Нет мнения? Почему же тогда вы интересуетесь безымянными?
— Разве я заговорила, а не вы?
Настало молчание. Часы Тягина, круглые плоские золотые часы, которые Фельтман положил на стол перед собой, тикали совсем тихо, так что их слышал только он, и они напоминали ему, что надо уходить. И придет он сюда через неделю, когда вернутся Тягины. В конце месяца.
Он встал, прокашлялся, подошел к Соне.
— До свидания, — сказал он, улыбаясь своей спокойной, детской улыбкой, — оттаять надо, Сонечка, оттаять. Когда вы оттаете?
Она встала тоже.
— Мыслящий гвоздь, — сказала она сухо, — вы слыхали о таком предмете?
— Это вы? — испугался он.
— Нет, это не я, — усмехнулась она, — но это бывает. — Секунду она думала. — Я выйду с вами, подождите меня.
Они зашагали по улице. Фельтман шел к метро. Он жил далеко, но передвигался во все концы города с завидной легкостью, дальность расстояний никогда его не останавливала, времени у него всегда бывало достаточно.
Он спросил ее, в какую ей сторону. Она не знала, что ответить, самое простое было сказать правду: я провожу вас, — и она это сделала.
— Вы меня хотите проводить? — воскликнул он, тронутый и удивленный. — Вот какие вещи бывают на свете!
И, слегка посмеиваясь, он бодро зашагал рядом с ней. Она не смеялась, не улыбалась даже. Она была занята своими мыслями.
— Я бы мог рассказать вам много разных интересных случаев, чего только я не видел в жизни! Жизнь проходит, уже прошла, собственно. Еще годик-два, может быть — три. Иногда очень печально делается на душе, когда подумаешь, что некому передать своего опыта, всякие такие ничтожные фактики, занятные и смешные, которые очень много, в сущности, значат и которые пропадут. Сколько с собой человек уносит, прямо страшно подумать! Какой багаж на двадцать четыре персоны! Ни в какую книгу не уместишь.
— Ни в романс, — сказала Соня.
— Куда там, в романс! Только нотка одна какая-нибудь скажется в целом романсе. Никто и не узнает этой нотки, только для автора она и звучит, а за ноткой — целая драма в пяти частях.
— А все-таки в этой ноте сказалось что-то. Хуже было бы, если бы и ее не было.
— По правде сказать, разница невелика. Разница единственно в какой-то бесконечно малой величине. Я, между прочим, и себя ощущаю как бесконечно малую величину.
Они простились, он спустился под землю, она пошла к дому. Она никогда не ощущала себя бесконечно малой величиной, но сейчас ей показалось, что между бесконечно малой и бесконечно большой разница не так уж велика. Эти руки, эти худые пальцы, это лицо с глазами и ртом, окруженное легкими вьющимися волосами, ноги, мерно ступающие, — какое и вправду малое тело, едва прикрепленное к почве, — вот здесь оно начинается, вон там кончается, за ним, перед ним, вокруг него — пространство бесконечное, миллиарды миль и миллиарды лет. Но то, что внутри этого маленького, слабого и хрупкого предмета, то, что заключено внутри и хочет вырваться, так огромно, так мощно, так страшно взрывчато.
В тихом в этот летний час квартале слышно было лишь, как вокруг, вдалеке, дышит и живет город. В августе уже не только тягинский тупик, но и все улицы, окружающие его, начинали приобретать сходство с какими-то молчаливыми покоями громадного, насквозь каменного строения. Залы и переходы, кордегардия какого-то замка, парадные хоромы неведомого дворца, коридор тюрьмы, когда-то возникшей в мозгу Пиранези, и, наконец, — сквер, словно зимний сад в барском доме, где в этот совсем уже темный час наступающей ночи платан и кедр, акация и сирень могут показаться нездешними, тропическими, а может быть, и искусственными растениями.
Пройдя подворотню, Соня шла теперь по тротуару тупика. По другой стороне уходил Жан-Ги, почти бегом. Стоит только крикнуть, позвать… Убегай, Жан-Ги, убегай скорее, она не любит тебя, ты был для нее только средством узнать жизнь, она уже ушла от тебя; у нее одно желание: расти. С ней трудно будет сладить. Да и зачем стремиться с ней сладить? Пусть растет, изменяясь и изменяя, пока не вырастет и не найдет то, что окончательно освободит ее… Соня смотрела вслед Жан-Ги, он скрылся, выбежав на улицу. Невероятным кажется сейчас, что она и в эти двери стучалась. Он, конечно, не ответил. Может быть, он неправильно понял ее? Намерения ее были совершенно «чистые», с такими же намерениями стучалась она сегодня к Фельтману. Ей все равны. Впрочем, что такое «чистые намерения»? Как знать, чем могло все это кончиться, и, значит, у нее теперь на совести не один Ледд.
Зай стояла в столовой у камина и в глубокой задумчивости перебирала Дашины письма. Все одно и то же. Может быть, все неправда? Нет, конечно, Даша не умеет лгать, да и зачем ей лгать? Это все правда, и в жизни вообще бывает больше правды, чем вымысла. Зай делалось все грустнее. Она облокотилась о камин и посмотрелась в зеркало: не похорошела!.. В это время вошла Соня и остановилась у стола.
— Ты что же, одна?
Зай не ответила.
— Спокойной ночи!
Зай опять не двинулась и не оглянулась. Соня поиграла выключателем.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.
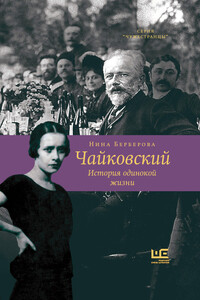
Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…
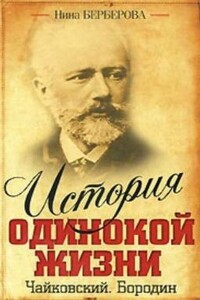
В этой книге признанный мастер беллетризованных биографий Нина Берберова рассказывает о судьбе великого русского композитора А. П. Бородина.Автор создает портрет живого человека, безраздельно преданного Музыке. Берберова не умалчивает о «скандальных» сторонах жизни своего героя, но сохраняет такт и верность фактам.

Нина Берберова, автор знаменитой автобиографии «Курсив мой», летописец жизни русской эмиграции, и в прозе верна этой теме. Герои этой книги — а чаще героини — оказались в чужой стране как песчинки, влекомые ураганом. И бессловесная аккомпаниаторша известной певицы, и дочь петербургского чиновника, и недавняя гимназистка, и когда-то благополучная жена, а ныне вышивальщица «за 90 сантимов за час», — все они пытаются выстроить дом на бездомье…Рассказы написаны в 30-е — 50-е годы ХХ века.

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.
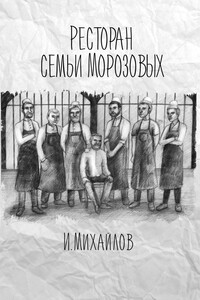
Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!