Мыс Бурь - [32]
— Чего? — спросила она.
— Придти ко мне. Я не один живу. У меня мама дома, а к ней целый день без конца ходят всякие люди, ты увидишь. Но они нам мешать не будут. И я даже уже рассказал дома о тебе. Пойдем!
Теперь ей пришло на ум, что до сих пор он ни разу не сказал ей, что живет с матерью, и вообще она так же мало знала о нем, как и он о ней. Они, собственно, главным образом только радовались друг другу. Столько предстояло еще узнать о нем и столько рассказать о себе! Они вскочили в автобус и понеслись, стоя на площадке, он защищал ее от других всем своим телом, прижав ее к барьеру. Ей было весело, она смеялась, и не надо было слов. Да, слова оказались в эти минуты на последнем месте, о них, в сущности, можно было забыть, молча улыбаться, закрывать глаза, на мгновение, когда он губами касался ее волос над лбом и невольно — лацканом пальто — ее лица. На каком-то углу он помог ей сойти, и они быстро пошли, почти побежали рядом, завернули за угол. Узкая улочка бежала им навстречу. Свистел ветер. Подле маленького, в четыре окна, особняка с облупившейся безносой кариатидой, держащей навес с выбитыми стеклами, над почерневшей дверью, они остановились, он вынул ключ.
Слова куда-то ушли, и мыслей никаких не было, и Зай не старалась их поймать, вызвать их обратно. Они вошли в дом. Крошечная передняя, гостиная вся в позолоте, шелку, чучелах, фарфоре; позолота лупится, шелк слинял, чучела подъедены молью, фарфор весь в трещинах; лестница круто ведет наверх, половицы коридора скрипучие, поющие на все ноты, полуоткрытая дверь в чью-то спальню, всю наполненную до потолка какими-то картонками, коробками, сундуками, другая — к нему в комнату, в игрушечную комнату с игрушечным оконцем, шкап с книгами, стол с чернильным пятном, похожим на Австралию, кровать, покрытая прозрачным от старости покрывалом.
— Садись. Правда, здесь такое чувство, будто мы далеко от всего, и если бы ты знала, как тихо тут, я говорю про мой угол, а внизу, там всегда народ. И сколько здесь ни отворяй, всегда немножко затхлым пахнет.
Пахло не столько затхлым, сколько табаком, какими-то травами, лекарствами. Зай присела на кровать, сбросив пальто на стул; едва прикрыв дверь, он с безудержною жадностью кинулся к ней, обнял ее колени, и она, с той же безудержностью, бросилась к нему.
Книги в шкапу стояли перед глазами Зай, словно это была часть нового пейзажа, расстилающегося впереди, далеко, далеко, до самого горизонта, в который было ловко вделано окошко. Там, за ним, качалась какая-то ветка — это был уже другой мир, — и слышно было, как усиливающийся ветер ходит над головой и рвется в каминную трубу. Здесь, совсем близко от нее, длинные черные ресницы над темным мужским глазом; она нагнулась, чтобы рассмотреть его, и в блеснувшем нежностью зрачке увидела себя. Блеснули его ровные, гладкие, прохладные зубы, вкус которых она теперь знала, запах миндаля шел от его раздвинутых в улыбке губ; юношеский подбородок, хрупкая шея. Она положила ему руку на лицо.
— Как они загнуты кверху и какие они длинные!.. Сколько тебе лет? Подожди, не отвечай, ничего не говори, не надо! Я скажу тебе: жизнь это освобождение. Да, да, не смейся, я знаю теперь, что такое жизнь. Так страшно сначала всё, и мир вокруг, и люди, и даже ты сам себе страшен, потому что ты не знаешь себя и, узнавая, боишься, дрожишь — конца не видать, и то ли еще будет! Дрожишь и не знаешь, имеешь ли ты право жить, имеешь ли ты право выбирать, желать, требовать, бороться за что-нибудь. Все так страшно, мыслей своих страшно, и одно тебя только и ведет: куда и как укрыться? Живешь и трепещешь, и презираешь себя, всю себя, со всеми своими косточками, которые внутри такие жалкие и сейчас вот-вот сломаются. И других презираешь тоже, потому что, наверное, они такие же, как ты сам, почему им быть смелее? Но время идет, и ты растешь, и вот идет, идет к тебе твое освобождение! Знаешь ли ты, что это такое? Я скажу тебе: освобождение приходит то явно, то незаметно, то постепенно раскрывается тебе твоя жизнь, как веер, и раскрываешься постепенно ты сам, тоже как веер, или ударяет она, как гром. А иногда еще в снах. О, послушай, я расскажу тебе, как просто жить и быть живой, и на свете двигаться, дышать, хотеть, любить. Как просто существовать, знать, чего хочешь, сметь, думать и расти! Обними меня крепче. Ты знаешь, какие бывают сны? Такие, что, просыпаясь, выходишь из них, как из клетки на свободу, из клетки, где был заперт без света и воздуха и только дрожал. И потом — все, что ни делаешь, все ведет только к одному: к освобождению. Пусть ничего не останется от жизни, лишь бы пройти этот дивный путь раскрепощения, выйти из жизни — свободной. Неужели есть такие люди, которые до старости у самих себя в плену? Счастье мое, мы с тобой такими не будем, правда? Счастье мое, ты думаешь, я буду и дальше писать стихи, сочинять, придумывать что-нибудь? Нет, что ты? Это было одно из моих явлений, и вот я свободна от него. Я жить хочу, я уже освободилась от этого, в тот вечер, помнишь, когда в первый раз я пошла туда и читала им… Понравилось им или нет, мне все равно. Главное, что я и через это вышла на волю, и началось снова другое, новое, что опять освободит меня. И сегодня опять — поцелуй меня еще! — я опять освобождаюсь, и раскрывается веер еще на одну дольку, и там за ней есть другие, и они раскроются тоже… Что-то спадает с меня, я стряхиваю с себя какую-то кожу, я знаю: жить это значит освобождаться. Через самое себя, через тебя, через стихи, через молитву, через что хочешь… Слушай меня! О, какое это счастье, если бы ты только мог поверить мне!

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.
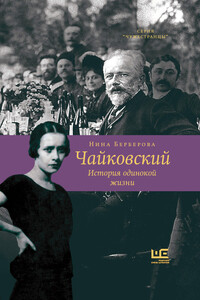
Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.
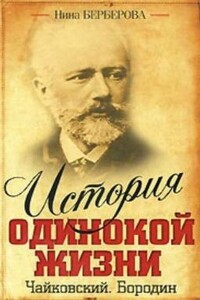
В этой книге признанный мастер беллетризованных биографий Нина Берберова рассказывает о судьбе великого русского композитора А. П. Бородина.Автор создает портрет живого человека, безраздельно преданного Музыке. Берберова не умалчивает о «скандальных» сторонах жизни своего героя, но сохраняет такт и верность фактам.
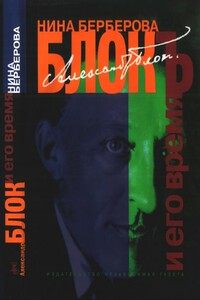
«Пушкин был русским Возрождением, Блок — русским романтизмом. Он был другой, чем на фотографиях. Какая-то печаль, которую я увидела тогда в его облике, никогда больше не была мной увидена и никогда не была забыта».Н. Берберова. «Курсив мой».

Сделав христианство государственной религией Римской империи и борясь за её чистоту, император Константин невольно встал у истоков православия.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.

Книга Сергея Зенкина «Листки с электронной стены» — уникальная возможность для читателя поразмышлять о социально-политических событиях 2014—2016 годов, опираясь на опыт ученого-гуманитария. Собранные воедино посты автора, опубликованные в социальной сети Facebook, — это не просто калейдоскоп впечатлений, предположений и аргументов. Это попытка осмысления современности как феномена культуры, предпринятая известным филологом.

Не люблю расставаться. Я придумываю людей, города, миры, и они становятся родными, не хочется покидать их, ставить последнюю точку. Пристально всматриваюсь в своих героев, в тот мир, где они живут, выстраиваю сюжет. Будто сами собою, находятся нужные слова. История оживает, и ей уже тесно на одной-двух страницах, в жёстких рамках короткого рассказа. Так появляются другие, долгие сказки. Сказки, которые я пишу для себя и, может быть, для тебя…