Мыс Бурь - [22]
— Вас послушать, можно подумать, что Париж — это лес, а не город.
— Париж — это лес, поле, горы, река, каналы и пастбища, — ответила она тогда.
И правда, дома и дворцы, памятники и арки могли исчезнуть, особенно дома, в которые так любила заглядывать Зай. Для Даши их могло не быть: это были камни, а она любила совсем другое.
Улица Жакоб. Маленькая гостиница; в бюро — ворох белья на столе, для починки, и запах кухни. Взгляд сухопарой хозяйки на доску с ключами: да, он у себя. Третий этаж, дверь, как все двери. Голос Ледда: кто там? Даша видит его сквозь дверь, но когда он появляется, он совсем не тот: небритый, худой, с красными глазами, в фуфайке с продранным локтем.
— Это вы! — он как будто не рад, и так удивлен, что это кажется неестественным.
Дым папирос в маленькой, с пестрыми обоями комнате. Регламент на двери, засиженный мухами, ситцевые ширмы, за которыми слышно, как в рукомойнике бежит вода, стол, заваленный книгами, бумагами, газетами. Что-то безличное в этом беспорядке.
— Я очень соскучилась, Ледд, мне захотелось вас видеть. Какой вы оказались неверный.
— Нет, я верный. Я приходил к вам, больше месяца тому назад это было. Сейчас же по приезде. Но вы не отозвались, и я решил, что вам не до меня.
Ей кажется, что и это неправда, но это — правда, и она садится.
— Сегодня у меня ужасный день, — говорит он, не глядя ей в глаза. — И вообще все эти дни — ужасные дни. Мне стыдно за беспорядок, но я в каком-то нехорошем, несуразном состоянии… Да, я приходил к вам, но вас не застал. И милой Зай тоже не было.
— Мне никто ничего не сказал.
— А потом — замотался. Никак не мог вырваться, — и Ледд вдруг начал хлопать по газетам, ища спичек. — Я у вас с вашей другой сестрой говорил, она мне дверь открыла. Мы познакомились, но она, вероятно, забыла. — Он твердо выговаривает последнее слово, и не верить ему, конечно, нельзя.
Об этом довольно. Но глаз его Даша не видит: то он становится спиной к окну, то садится как-то боком, то ходит вокруг, ища что-то, ставит какие-то книги на полку, одергивает покрывало кровати.
Несколько мгновений Даша слушает себя. Там не всё спокойно. Кажется, надо скоро-скоро уйти, но она остается.
А вместе с тем не только ей самой было ясно: надо уйти, но и сам Ледд как будто без слов умолял ее об этом. Между тем разговор тёк своим порядком, Ледд даже сказал один раз «еще очень рано», что могло означать «останьтесь еще», но где-то в одном шаге от этой комнаты находилась уже другая плоскость, и там все было зачеркнуто и уничтожено.
Ледд, однако, старался говорить все время, и когда ему это не удавалось, наступали провалы молчания, Даша и сквозь них слышала продолжение его мыслей, которые текли и текли с невероятной силой, с напором кричащей убедительности, но которые ей казались такими холодными и мутными.
Над столом были кнопками пришпилены два портрета — два человеческих лица, и казалось: невозможно было бы найти не только во всем XIX веке, но и во всей мировой истории два лица, которые бы так отличались друг от друга; в левом, том, что висело над столом, было нечто ангельское. В его нежности была бесполость, в его глазах, в его чертах не было ни того, что могло бы назваться умом, ни того, что называется мудростью; в юном очерке чуть заостренных скул была та прелесть, которая не бывает даже в цветке, нельзя было не дрогнуть при виде очерка этого рта. Мог ли такой рот жевать, целовать, курить? Возможно ли было представить себе, что это лицо в свое время лежало в гробу, темнея и разлагаясь? Это был Новалис. Он был прикноплен кое-как, конечно, только именно за лицо, вряд ли Ледд думал о его поэзии когда-либо, во всяком случае — давно не думал. Другое лицо было целиком из мяса. Оно было тяжелое, заросшее бородой, и глаза в толстых веках под тяжелыми синими волосами, были грозны. Даша не сразу узнала Бакунина.
Потом наступила пауза. Она внимательно смотрела в окно. Неужели это ему на грудь клала она свою руку и говорила с ним о тюльпане? Он преисполнен какого-то отчаяния, он сам не знает, о чем говорит.
— Очень трудно, очень трудно без своей страны, — прервал он вдруг себя самого (он говорил о том, что пишет сейчас статью на трех языках сразу), — и особенно мне, такому, потому что у меня нет родины, никакой родины, никогда ее не было, никогда ее не будет. И значит никакого настоящего дела в жизни нет. Одна трепка нервов по чужим углам. И всё не то, всё не то, и так — до седых волос. Безвыходность. Вы этого не понимаете?
Она не почувствовала вопроса в его словах, только утверждение, и не захотела ответить, у нее было что сказать по этому поводу, но она не чувствовала необходимости открывать ему свои мысли. И она увидела бесповоротно, так, как если бы он сам ей сказал своим громким, сухим голосом, которым всегда говорил: она совершенно не нужна ему в жизни, в его борьбе, он чувствует ее заранее как совершенно ему в этом чужую; и пусть ей кажется сейчас бесспорным, что в ней и только в ней всё его спасение, что не ее судьба вела к нему, но его к ней, что он слеп и глух к собственному бытию, — она должна встать и уйти. Туча проходит над высохшим полем и бурно проливается дождем над океаном.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.
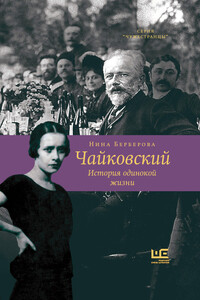
Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.
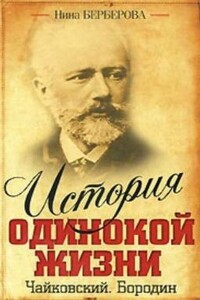
В этой книге признанный мастер беллетризованных биографий Нина Берберова рассказывает о судьбе великого русского композитора А. П. Бородина.Автор создает портрет живого человека, безраздельно преданного Музыке. Берберова не умалчивает о «скандальных» сторонах жизни своего героя, но сохраняет такт и верность фактам.
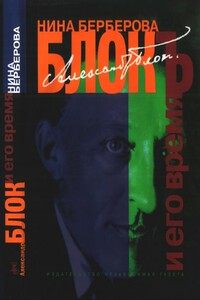
«Пушкин был русским Возрождением, Блок — русским романтизмом. Он был другой, чем на фотографиях. Какая-то печаль, которую я увидела тогда в его облике, никогда больше не была мной увидена и никогда не была забыта».Н. Берберова. «Курсив мой».

Книга Сергея Зенкина «Листки с электронной стены» — уникальная возможность для читателя поразмышлять о социально-политических событиях 2014—2016 годов, опираясь на опыт ученого-гуманитария. Собранные воедино посты автора, опубликованные в социальной сети Facebook, — это не просто калейдоскоп впечатлений, предположений и аргументов. Это попытка осмысления современности как феномена культуры, предпринятая известным филологом.

Почти всю жизнь, лет, наверное, с четырёх, я придумываю истории и сочиняю сказки. Просто так, для себя. Некоторые рассказываю, и они вдруг оказываются интересными для кого-то, кроме меня. Раз такое дело, пусть будет книжка. Сборник историй, что появились в моей лохматой голове за последние десять с небольшим лет. Возможно, какая-нибудь сказка написана не только для меня, но и для тебя…

Не люблю расставаться. Я придумываю людей, города, миры, и они становятся родными, не хочется покидать их, ставить последнюю точку. Пристально всматриваюсь в своих героев, в тот мир, где они живут, выстраиваю сюжет. Будто сами собою, находятся нужные слова. История оживает, и ей уже тесно на одной-двух страницах, в жёстких рамках короткого рассказа. Так появляются другие, долгие сказки. Сказки, которые я пишу для себя и, может быть, для тебя…

Дамы и господа, добро пожаловать на наше шоу! Для вас выступает лучший танцевально-акробатический коллектив Нью-Йорка! Сегодня в программе вечера вы увидите… Будни современных цирковых артистов. Непростой поиск собственного жизненного пути вопреки семейным традициям. Настоящего ангела, парящего под куполом без страховки. И пронзительную историю любви на парапетах нью-йоркских крыш.

Многие задаются вопросом: ради чего они живут? Хотят найти своё место в жизни. Главный герой книги тоже размышляет над этим, но не принимает никаких действий, чтобы хоть как-то сдвинуться в сторону своего счастья. Пока не встречает человека, который не стесняется говорить и делать то, что у него на душе. Человека, который ищет себя настоящего. Пойдёт ли герой за своим новым другом в мире, заполненном ненужными вещами, бесполезными занятиями и бессмысленной работой?
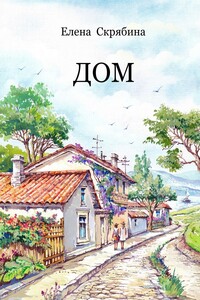
Автор много лет исследовала судьбы и творчество крымских поэтов первой половины ХХ века. Отдельный пласт — это очерки о крымском периоде жизни Марины Цветаевой. Рассказы Е. Скрябиной во многом биографичны, посвящены крымским путешествиям и встречам. Первая книга автора «Дорогами Киммерии» вышла в 2001 году в Феодосии (Издательский дом «Коктебель») и включала в себя ранние рассказы, очерки о крымских писателях и ученых. Иллюстрировали сборник петербургские художники Оксана Хейлик и Сергей Ломако.