Мозес - [33]
Как бы то ни было, сэр, вопрос оставался без ответа.
16. Филипп Какавека. Фрагмент 42
«БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ. Вот, пожалуй, самое несерьезное дело на свете – быть серьезным. Ведь слишком большая серьезность, как правило, чаще всего незаметно оборачивается своей противоположностью. Оттого большинство инстинктивно придерживается золотой середины.
Следует ли нам заключить отсюда, что серьезное – несерьезно, а в несерьезном, напротив, кроется величайшая серьезность? Такой вопрос свидетельствовал бы только о чрезвычайно серьезных намерениях спрашивающего. Я же только хотел еще раз подать свой голос в защиту оборотней».
17. Кое-какие умственные движения вокруг Маэстро
Тот день, кажется, так и кончился – ничем.
Не считая, правда, небольшого экскурса в размышление Маэстро над вечными проблемами пространства и времени, что, впрочем, случалось довольно часто, тем более – когда в руки Феликса попадала эта общая толстая тетрадь в голубом коленкоровом переплете.
– Вот, послушайте, – сказал он, листая тетрадь в поисках нужного места. – Мне кажется, это вам понравится.
И он прочел, как всегда слегка шепелявя и торопясь, отчего иногда было трудно разобрать какое-нибудь невнятно произнесенное слово и приходилось, чтобы не обидеть Феликса, догадываться о его смысле самому.
"Иногда мне кажется, – читал он, наставительно подняв в потолок указательный палец, – что я не люблю пространство, потому что оно порабощает меня своей фальшивой готовностью подчиняться всему, что его наполняет, не переставая в то же время властвовать и повелевать отданными ей вещами, лишая их свободы и превращая в послушные тени. Конечно, оно всегда готово принять все что угодно – это пространство, не знающее исключения – но именно принять, как принимают милостыню, как принимают тебя богатые родственники или как принимают сирот в детском доме, как принимают неприятные сны или неприятные новости, от которых ведь никуда не денешься, и с которыми теперь приходится смириться…»
– И дальше, – сказал Феликс, переворачивая страницу.
«Пространство подстерегает меня на каждом шагу. Оно застилает мои глаза и не дает возможности увидеть вещь саму по себе, – такой, какой она впервые узнала себя в Божественном замысле – потому что пойманная пространством вещь уже навсегда определена своей рабской принадлежностью к пространству, которое, прежде всего, было и остается тюрьмой вещей. Но придет час, когда вещи заговорят о своих истоках
Он помолчал немного, а затем спросил:
– Ну? Что скажите?.. По-моему, это кого-то здорово напоминает. Вот только не могу понять кого.
– Это напоминает Какавеку, – сказал Давид.
– Возможно, и Какавеку, – сказал Ру. – И все-таки я не понимаю, почему он так ополчился на это бедное пространство, которое, признаться, иногда бывает очень даже милым.
– Боюсь, что это только иллюзия, – заметил Давид и сразу добавил. – Если, конечно, верить Маэстро.
– Вот именно, – сказала Анна, – Если верить Маэстро, то разговор, собственно, идет о том, что пространство превращает любую вещь, которую оно обнаруживает, в нечто мертвое, в нечто, занятое лишь самим собой. Это самодовольное и наглое пространство, которое превращает любую вещь в некую отвлеченную протяженность, которой, на самом деле, нет до тебя никакого дела… Я правильно поняла, надеюсь?
– Как всегда, – кивнул Давид.
– Еще бы, – поддержал его Ру. – Мне кажется, что даже я понял.
– Ну, не прибедняйся, – Анна глядела куда-то поверх голов сидящих, как будто она видела там что-то такое, чего не видели другие. – Только на самом деле все обстоит не всегда так, как он говорит. Есть пространство, которое созидается из улыбки. Или из шелеста осенней травы. Или из вещего сна. Да мало ли…
– Или из звона китайского фарфора,– сказал Ру, словно напоминая опять один из фрагментов Филиппа Какавеки. – Кажется, мы с Анной мыслим параллельно.
– В таком случае, я мыслю перпендикулярно, – сказал Феликс и негромко засмеялся. Потом добавил:
– Давайте лучше подумаем вот над чем. Маэстро хочет освободить вещь или события от власти пространства, которое превращает вещь в нечто мертвое и чужое… Так?
– Да, – сказал Ру.
– Следовательно… – и Феликс посмотрел на Давида, как будто именно от него ждал продолжения.
– Следовательно, – сказал Давид, жестом приглашая Феликса ответить самому.
– Следовательно, нам надо увидеть вещь не как нечто протяженное, на чем настаивал Декарт и вслед за ним вся европейская философия. Нам надо увидеть вещь, как нечто, что демонстрирует нам свою сущность совершенно иначе, чем просто протяженность… И тогда нам остается признать, что этим самым нечто может быть только эйдос, как бы мы его сейчас ни понимали. Потому что ничего другого та же европейская философия за две с половиной тысячи лет не нашла.
– Ура, – сказал Ру. – Теперь, по крайней мере, мы знаем, кто виноват.
– Вещь – не протяженна, – повторил Феликс слегка заунывно, словно он собирался заговорить разом все вещи мира, заставив их отказаться от протяженности и поведать о себе что-то совсем другое. – Она обнаруживает себя как эйдос, то есть раскрывается перед нами, как смысл, потому что если вещь лишается онтологического основания, от нее останется только один чистый смысл…
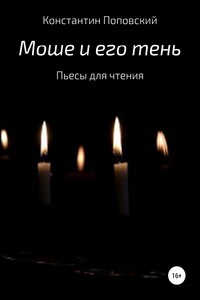
"Пьесы Константина Поповского – явление весьма своеобразное. Мир, населенный библейскими, мифологическими, переосмысленными литературными персонажами, окруженными вымышленными автором фигурами, существует по законам сна – всё знакомо и в то же время – неузнаваемо… Парадоксальное развитие действия и мысли заставляют читателя напряженно вдумываться в смысл происходящего, и автор, как Вергилий, ведет его по этому загадочному миру."Яков Гордин.

"Современная отечественная драматургия предстает особой формой «новой искренности», говорением-внутри-себя-и-только-о-себе; любая метафора оборачивается здесь внутрь, но не вовне субъекта. При всех удачах этого направления, оно очень ограничено. Редчайшее исключение на этом фоне – пьесы Константина Поповского, насыщенные интеллектуальной рефлексией, отсылающие к культурной памяти, построенные на парадоксе и притче, связанные с центральными архетипами мирового наследия". Данила Давыдов, литературовед, редактор, литературный критик.

Кажущаяся ненужность приведенных ниже комментариев – не обманывает. Взятые из неопубликованного романа "Мозес", они, конечно, ничего не комментируют и не проясняют. И, тем не менее, эти комментарии имеют, кажется, одно неоспоримое достоинство. Не занимаясь филологическим, историческим и прочими анализами, они указывают на пространство, лежащее за пространством приведенных здесь текстов, – позволяют расслышать мелодию, которая дает себя знать уже после того, как закрылся занавес и зрители разошлись по домам.

Патерик – не совсем обычный жанр, который является частью великой христианской литературы. Это небольшие истории, повествующие о житии и духовных подвигах монахов. И они всегда серьезны. Такова традиция. Но есть и другая – это традиция смеха и веселья. Она не критикует, но пытается понять, не оскорбляет, но радует и веселит. Но главное – не это. Эта книга о том, что человек часто принимает за истину то, что истиной не является. И ещё она напоминает нам о том, что истина приходит к тебе в первозданной тишине, которая все еще помнит, как Всемогущий благословил день шестой.

Автор не причисляет себя ни к какой религии, поэтому он легко дает своим героям право голоса, чем они, без зазрения совести и пользуются, оставаясь, при этом, по-прежнему католиками, иудеями или православными, но в глубине души всегда готовыми оставить конфессиональные различия ради Истины. "Фантастическое впечатление от Гамлета Константина Поповского, когда ждешь, как это обернется пародией или фарсом, потому что не может же современный русский пятистопник продлить и выдержать английский времен Елизаветы, времен "Глобуса", авторства Шекспира, но не происходит ни фарса, ни пародии, происходит непредвиденное, потому что русская речь, раздвоившись как язык мудрой змеи, касаясь того и этого берегов, не только никуда не проваливается, но, держась лишь на собственном порыве, образует ещё одну самостоятельную трагедию на тему принца-виттенбергского студента, быть или не быть и флейты-позвоночника, растворяясь в изменяющем сознании читателя до трепетного восторга в финале…" Андрей Тавров.

"По согласному мнению и новых и древних теологов Бога нельзя принудить. Например, Его нельзя принудить услышать наши жалобы и мольбы, тем более, ответить на них…Но разве сущность населяющих Аид, Шеол или Кум теней не суть только плач, только жалоба, только похожая на порыв осеннего ветра мольба? Чем же еще заняты они, эти тени, как ни тем, чтобы принудить Бога услышать их и им ответить? Конечно, они не хуже нас знают, что Бога принудить нельзя. Но не вся ли Вечность у них в запасе?"Константин Поповский "Фрагменты и мелодии".