Мозес - [25]
13. В тени Ксенофана
– Господи, – сказал, наконец, Феликс, вытаскивая на свет божий очередную партию холстов. – Мне кажется, ты решила сегодня замучить нас этим чертовым аллегро до смерти. Между прочим, Бах писал не для того, чтобы его использовали в качестве пытки. По-моему, ты ставишь его уже пятый раз.
– Оно того стоит, – сказала Ольга, немного убавив звук.
– Мера, число и порядок, – наставительно произнес Феликс. – Именно они, если ты это забыла, делают нашу жизнь относительно сносной… Лучше скажи, что нам оставить на обложку… Может, вот эту?.. Анна?
– Можно эту, – кивнула Анна.
– Не знаю, – сказал Ольга несколько вызывающе. – Мне кажется, что Маэстро это сейчас глубоко безразлично.
– Маэстро может оно и безразлично, – сказал Феликс. – А вот нам нет… А чем языком трепать, лучше скажи, что ты думаешь о нашем альбоме. Есть какие-нибудь мысли?
– Вагон.
– Я серьезно – сказал Феликс. – Кто, например, будет писать вступиловку?.. Может, ты?
Пожалуй, в его голосе можно было расслышать какую-то неуверенность, словно он спрашивал только из вежливости или в силу сложившихся обстоятельств, о которых знал только он один, опасаясь теперь услышать в ответ что-нибудь не слишком приятное.
– Во всяком случае, не я, – отрезала Ольга.
– И напрасно, – как будто с облегчением вздохнул Феликс. – Между прочим, могла бы получиться неплохая статья.
– Я уже тебе говорила, что я думаю по поводу всех этих неплохих статей, – сказала Ольга. – Могу повторить, но боюсь, тебе это не понравится.
– Лучше не надо, – сказал Феликс.
– Я тоже так думаю, – согласилась Ольга. – Потому что все, что я хотела сказать, это то, что все ваши бесконечные разговоры об искусстве на самом деле ничего не стоят. Но это вы и без меня знаете.
– Ну, это еще как сказать, – подал голос Ру.
– Вот так и сказать, – сказала Ольга. – Потому что дело заключается вовсе не в том, чтобы растолковать этим среднестатистическим идиотом, что такое хорошо, а в том, что надо научиться просто смотреть – и больше ничего… Просто открыть глаза и смотреть. А этому научить нельзя.
Пока она говорила, Давид поймал в объективе ее лицо.
Почти хищный прищур глаз. Холодный взгляд, который не обещал ничего хорошего. Едва заметная, покривившая губы усмешка.
– Понятно, – сказал Феликс. – К сожалению, это может позволить себе не каждый… Некоторые, например, хотят понять, что они видят.
– Вот именно, – Ольга затянулась и пустила над столом клубящийся фиолетовый дым. – Хотеть хотят, но все равно ни хрена при этом не понимают. Потому что Небеса или кто там еще лишили их способности просто смотреть… Открыть глаза и просто посмотреть, не задавая никаких дурацких вопросов.
– Пардон, – сказал Феликс, поворачиваясь к сидящей Ольге и наклоняя голову, что сразу сделало его немного похожим на быка, готового сию минуту броситься на красную тряпку. – Тогда скажи нам, зачем ты тогда все это за Маэстро записывала, если для тебя главное – просто смотреть, а не понимать?.. На хрена ты записывала за ним, черт возьми?
Было видно, что он, наконец, решил рассердиться.
– Потому, что он меня попросил, – сказала Ольга. – Надеюсь, это уважительная причина?
– Ой, ну хватит вам, – Анна замахала газетой, чтобы разогнать дым. – Господи, какой дымище. Откройте хотя бы окно, пока мы тут не задохнулись.
Возможно, конечно, что ему это только показалось, – этот легкий аромат зреющего где-то в глубине раздора, который еще только готовился, только собирался где-то, как собирается едва заметная поначалу буря, пока еще только дающая о себе знать стелющейся по земле травой и шумом еще не сильного ветра, гуляющего в кронах деревьев, но уже готовая через минуту обрушиться на землю звоном разбитого стекла и треском ломающихся ветвей.
Впрочем, пока все было относительно спокойно.
Глядя на стелющийся под солнечным светом дым, Давид вспомнил вдруг, как год или около того назад вот за этим самым столом они сидели втроем – он, рабби Ицхак и Маэстро, который приехал договариваться о выставке в Иерусалиме, и которого Давид привел в мастерскую Маэстро, чтобы показать картины.
Кажется, тогда поначалу тоже все было спокойно.
В меру – одобрительных отзывов, в меру – нейтральных вопросов. Редкие замечания. Сдержанные, слегка натянутые пояснения.
Рабби Зак больше молчал, кивая головой в ответ на реплики Давида или Маэстро. Иногда он, конечно, делал короткие замечания или просил подвинуть очередной холст ближе к свету, но при этом все равно было трудно понять, какое впечатление у него складывается от увиденного. Возможно, – подумал Давид, – что никакого или даже вполне отрицательное, так что в любую минуту можно было ждать, что он вдруг приподнимет свою черную шляпу и, улыбнувшись, откланяется, отделавшись напоследок каким-нибудь общим вежливым местом.
Похоже, что так оно, кажется, и намечалось. Наверное, Давид почувствовал это по той неловкости, которая вдруг повисла в комнате, – так, словно изо всех щелей потянуло вдруг холодом или как будто в комнате вдруг убавили свет.
Потом рабби спросил, отчего среди полотен Маэстро так много легко узнаваемых античных сюжетов, а Маэстро ответил, – и при этом немного с вызовом, словно в вопросе рабби Ицхака скрывался какой-то обидный намек, – что он по-прежнему видит в античности эталоны истинности и внутренней красоты, которым не грех было бы поучиться современным мастерам. Затем он как-то легко и сразу перескочил к теме заката античности, отметив, что, по его мнению, конец античного мира знаменует самую ужасную катастрофу, которую пришлось пережить человечеству за всю свою духовную историю.
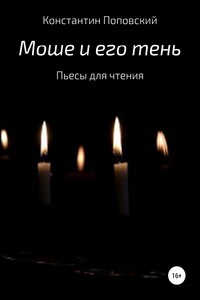
"Пьесы Константина Поповского – явление весьма своеобразное. Мир, населенный библейскими, мифологическими, переосмысленными литературными персонажами, окруженными вымышленными автором фигурами, существует по законам сна – всё знакомо и в то же время – неузнаваемо… Парадоксальное развитие действия и мысли заставляют читателя напряженно вдумываться в смысл происходящего, и автор, как Вергилий, ведет его по этому загадочному миру."Яков Гордин.

"Современная отечественная драматургия предстает особой формой «новой искренности», говорением-внутри-себя-и-только-о-себе; любая метафора оборачивается здесь внутрь, но не вовне субъекта. При всех удачах этого направления, оно очень ограничено. Редчайшее исключение на этом фоне – пьесы Константина Поповского, насыщенные интеллектуальной рефлексией, отсылающие к культурной памяти, построенные на парадоксе и притче, связанные с центральными архетипами мирового наследия". Данила Давыдов, литературовед, редактор, литературный критик.

Кажущаяся ненужность приведенных ниже комментариев – не обманывает. Взятые из неопубликованного романа "Мозес", они, конечно, ничего не комментируют и не проясняют. И, тем не менее, эти комментарии имеют, кажется, одно неоспоримое достоинство. Не занимаясь филологическим, историческим и прочими анализами, они указывают на пространство, лежащее за пространством приведенных здесь текстов, – позволяют расслышать мелодию, которая дает себя знать уже после того, как закрылся занавес и зрители разошлись по домам.

Патерик – не совсем обычный жанр, который является частью великой христианской литературы. Это небольшие истории, повествующие о житии и духовных подвигах монахов. И они всегда серьезны. Такова традиция. Но есть и другая – это традиция смеха и веселья. Она не критикует, но пытается понять, не оскорбляет, но радует и веселит. Но главное – не это. Эта книга о том, что человек часто принимает за истину то, что истиной не является. И ещё она напоминает нам о том, что истина приходит к тебе в первозданной тишине, которая все еще помнит, как Всемогущий благословил день шестой.

Автор не причисляет себя ни к какой религии, поэтому он легко дает своим героям право голоса, чем они, без зазрения совести и пользуются, оставаясь, при этом, по-прежнему католиками, иудеями или православными, но в глубине души всегда готовыми оставить конфессиональные различия ради Истины. "Фантастическое впечатление от Гамлета Константина Поповского, когда ждешь, как это обернется пародией или фарсом, потому что не может же современный русский пятистопник продлить и выдержать английский времен Елизаветы, времен "Глобуса", авторства Шекспира, но не происходит ни фарса, ни пародии, происходит непредвиденное, потому что русская речь, раздвоившись как язык мудрой змеи, касаясь того и этого берегов, не только никуда не проваливается, но, держась лишь на собственном порыве, образует ещё одну самостоятельную трагедию на тему принца-виттенбергского студента, быть или не быть и флейты-позвоночника, растворяясь в изменяющем сознании читателя до трепетного восторга в финале…" Андрей Тавров.

"По согласному мнению и новых и древних теологов Бога нельзя принудить. Например, Его нельзя принудить услышать наши жалобы и мольбы, тем более, ответить на них…Но разве сущность населяющих Аид, Шеол или Кум теней не суть только плач, только жалоба, только похожая на порыв осеннего ветра мольба? Чем же еще заняты они, эти тени, как ни тем, чтобы принудить Бога услышать их и им ответить? Конечно, они не хуже нас знают, что Бога принудить нельзя. Но не вся ли Вечность у них в запасе?"Константин Поповский "Фрагменты и мелодии".