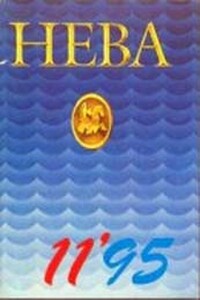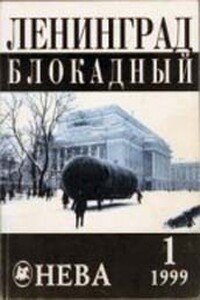— Привет, Исаак! — бодро выкрикнул я. — Вот мы и встретились на земле обетованной!
— Ты сорвал эти цветы? — вместо приветствия выдохнул мой знакомый с каким-то испугом.
— Да, — оторопело подтвердил я, — Это дикие маки, я сорвал их внизу на склоне…
— Это не маки, а колониоты, — прервал меня Исаак. — Спрячь их скорее! Если кто-нибудь увидит их в твоих руках, у тебя будут большие неприятности.
— Почему? Из-за трех диких цветков — большие неприятности?
— Эти цветы здесь священны. Их считают каплями крови израильских солдат, павших за независимость Израиля в 1948 году.
Я спрятал цветы за пазуху, и они еще раз показались мне огоньками, потому что жгли мне кожу.
Много лет спустя, в зале, где экспонировалась выставка моих акварельных пейзажей, за накрытыми столами с вином и всяческой снедью, собрались седые серьезные мужчины. Все они были празднично одеты, множество орденов и медалей украшали их пиджаки и мундиры.
— Мы сегодня празднуем Хануку, — сказал ведущий и поднял бокал с вином, — Один из главных еврейских праздников в честь победы Маккавеев над врагами в 167 году до нашей эры. Нам, участникам великой битвы с фашизмом, этот праздник должен быть особенно дорог. Разрешите открыть наш праздник великолепными стихами Бунина, которые могут стать камертоном всей нашей сегодняшней встречи. Но сначала несколько слов. Ранней весной расцветают в Израиле красивые цветы, похожие на маки. Их можно видеть не только на лесных полянах, на обочинах дорог, — везде и всюду видны их ярко красные лепестки. Называются они «кровь Маккавеев».
И. Бунин
ИЕРУСАЛИМ
Это было весной. За восточной стеной
был горячий и радостный зной.
Зеленела трава. Ни припеке во рву
мак кропил огоньками траву.
И сказал проводник: «Господин! Я — еврей,
и, быть может, потомок царей.
Погляди на цветы по сионским стенам:
это все, что осталося нам».
Я спросил: «На цветы?» И услышал в ответ:
Господин! Это праотцев след.
Кровь погибших в боях. Каждый год, как весна,
красным маком восходит она.
Я впервые слышал эти стихи, и нарастающий с каждым словом интерес вдруг обернулся для меня ясным временным мостом между Маккавеями и Буниным, между Буниным и собой…
А на стенке в простой деревянной рамке алели мои маки, такие же прекрасные, как и две тысячи лет тому назад…
Росла береза на краю елового леса.
И была эта береза так широка и раскидиста, что отдельные ее ветки аж в глубину еловника забрались.
И так они там привыкли и так прижились, что себя березовыми почитать перестали, а стали считать себя хвойного происхождения. Елки над ними посмеивались, но не мешали им так думать. Иногда даже милостью своей дарили — каплями смолы уроненными награждали, а березовые веточки те капли с жадностью ловили и на себя вешали — чтобы хвоей пахнуть.
Только начался однажды буран.
Зашевелил, раскидал он еловые ветки. Расшумелись, раскачались лапы еловые, стали больно толкать да колоть березовые веточки… — Вон отсюда! Без вас плохо!
Заплакали, зашелестели березовые веточки: Куда же мы? Мы же хорошие! Мы же елочки! Вон — и хвоей пахнем…
Да не верили им тяжелые зеленые лапы, толкали и ломали попрежнему. Кого поломали, а кого и оставили.
Буран тем временем и прошел.
Начали оставшиеся березки-веточки думать: как быть? Что делать? И порешили — надо, дескать, от березы отломаться, да к елке прилепиться. Тогда все ладно будет. И иголочки у нас может быть вырастут. Сказано — сделано. Стали они выкручиваться, да выламываться. Обломились у основания и на землю упали. Там им и конец пришел.
Береза подумала: Жаль. У меня на три веточки меньше стало. Подумала и забыла.
А елки вообще ничего не заметили и продолжали шуметь своими зелеными широкими лапами.