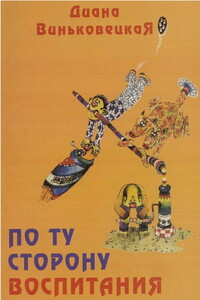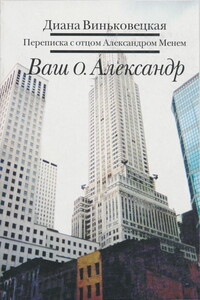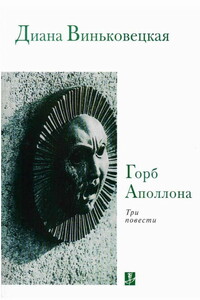Ленинградский скульптор Пётр Криворуцкий, восхищённый деятельностью Арона Яковлевича, посещавший его ульпан, вылепил громадный скульптурный портрет Арона Яковлевича «до пояса» в обычной манере реализма. Слегка склонив голову набок и подперев её рукой, устремив взгляд куда‑то внутрь, Арон Яковлевич на портрете выглядит умным, приукрашенным учёным, в пиджаке, галстуке и в очках. Такой учёный Владимир Ильич, на образе которого скульпторы набили руку, и всё так и лепилось, как по трафарету. Наверно, Арону Яковлевичу не понравилось бы моё сравнение, но что делать, если соц. реализм такое навеивает, и трудно удержаться от такого сравнения.
Мы привезли эту скульптуру в Нью–Йорк и отдали Гильдесгейму, а он подарил этот портрет музею еврейской истории, как я шутила: «для показа приличных советских евреев». Одной своей приятельнице, я сказала, что мы несколько натерпелись, вывозя из Союза такой огромный ящик со скульптурой Арона, на что она иронично заметила: «Вы вывозили немую скульптуру, а мы — живого свёкра». Вот так.
Дело прошлое: в семидесятые годы остро стоял вопрос: куда вы собираетесь ехать? (после получения разрешения на выезд из Союза) Едущие в Израиль негодовали и осуждали тех, кто проехал «мимо»; выросшие в рабстве, отрезанные от свободного мира, многие из нас полагали, что все обязаны ехать туда, откуда пришёл вызов. «Думали, что один помещик откупил крепостных у другого помещика», — так иронизировал по этому поводу наш израильский друг физик Виктор Кусельевич Коган, сам живущий в Иерусалиме на оккупированной территории. «А из нашего окна Иордания видна, а из вашего окошка только Сирия немножко» — из стишков его зятя.
Арон Яковлевич считал, что все евреи должны жить в Израиле, но это была его только идеалистическая сионистская мечта, потому как он рассматривал этот выбор только как «хорошо бы», оставляя другим их собственный. Выбор есть законная потребность нашего вида, как говорил Яков, и без этой потребности человек, втиснутый в рамки необходимости, теряет способность сам думать и размышлять.
И хотя Арон Яковлевич огорчился, что мы проехали в Штаты, но всегда оставался верным своей любви и доброте, и никакие идеологические тревоги не ожесточали и не омрачали его внутренней чистоты. Некоторые из его единомышленников, недовольные нашим переездом, переносили на Арона Яковлевича своё негодование, (мол, плохо воспитал сына) и даже исключили его из какого‑то сионистского комитета, но он на обиды был незлобив.
Время меняет столь многое, ценности, взгляды, что рано или поздно кто‑то из израильско–русских патриотов сам отказывался от своих экстремальных взглядов и оказывался далеко за пределами Израиля, хотя кто‑то остается верным своим мечтам. Сейчас «неприезды» алии уже так остро не обсуждаются и не осуждаются, многое забывается, стирается, уходит. и остаётся только то, что является более или менее общими человеческими достижениями. Думается, что одним из таких благородных вкладов в культуру являются собранные Ароном Яковлевичем народные еврейские песни, — петь которые занятие более благородное, чем сотрясать эфир разными политическими лозунгами.
Что чувствовал Арон Яковлевич на протяжении последних лет своей жизни? Как он принял трагическую смерть своего сына? (84 год) И можно ли было его утешить? Я уже никогда не узнаю.
Под конец дней Арона Яковлевича в 87 году навестил в Израиле наш сын Илья, и для своего русского внука у дедушки Арона тоже хватило любви: «Илюша, независимо от того, где ты живёшь, главное — быть честным и добрым человеком». Сам Арон Яковлевич таким и был.