Москва. Путь к империи - [4]
После падения македонской династии дела в империи резко ухудшились. И в Скандинавии тоже. Буйная эпоха «бродяг моря», приносившая Скандинавии громадную прибыль от военных походов в страны Европы, Африки, Азии и даже Америки, закончилась неудачным походом Харальда Хардероде (Сурового) на Альбион в 1066 году. Последний «король моря», как называли Харальда, конунга Норвегии, погиб. Поток товаров по Днепру катастрофически уменьшился, на что оказала влияние и дестабилизация в восточноевропейской степи, куда уже вошли из-за Волги сильные половцы, оттеснив на запад одряхлевших печенегов. А значит, ухудшилось и экономическое положение, а лучше сказать, экономические возможности сильно раздутых варяжским ветром громоздких городов Поднепровья. Пришлось искать другие возможности, другие земли, другие дороги, что и стало причиной кардинальной перекройки экономической и политической карты Восточной Европы, междоусобиц русских князей.
Распря между Рюриковичами, надо отметить, вспыхивала и раньше, еще в IX веке, но до 1077 года она носила локальный характер. Могущественным князьям киевским удавалось относительно быстро гасить огонь братоубийственных войн. Разразившаяся в 1077 году распря между внуками Ярослава Мудрого в корне отличалась от прочих тем, что борьба теперь шла не за киевский великокняжеский престол, а за господство новых княжеств, новых городов над старыми, над Русью, быстро меняющей не только экономическую географию, но и политические приоритеты.
Согласно упоминаниям в летописях, в XI веке в Восточной Европе было основано 62 города. В XII веке на Руси возникло уже 134 города. Стремительный рост городов и укрепленных поселений происходил в то время, когда роль варяжской опоры в экономике страны практически сошла на нет. Основатели новых городов решали задачи, по сути своей резко отличающиеся от тех задач, которые жизнь ставила перед князьями, боярами и простолюдинами Киевской Руси до смерти Ярослава Мудрого, а центр политической жизни восточноевропейского государства стал медленно, но неуклонно перемещаться в Северо-Восточную Русь. Именно здесь, в Заокской земле, рождались новые взаимоотношения князей и народа. «В самом деле, на севере князь часто первым занимал местность и искусственно привлекал в нее посельников, ставя им город или указывая пашню. В старину на юге (в Киевской Руси. — А. Т.) было иначе: пришельцем в известном городе был князь, исконным же владельцем городской земли — вече; теперь на севере пришельцем оказывалось население, а первым владельцем земли — князь. Роли переменились, должны были измениться и отношения. Как политический владелец, князь на севере по старому обычаю управлял и законодательствовал; как первый заимщик земель, он считал себя и свою семью, сверх того, вотчинниками — хозяевами данного места. В лице князя произошло соединение двух категорий прав на землю: прав политического владельца и власти частного собственника. Власть князя стала шире и полнее»[2].
Из процитированной мысли С. Ф. Платонова можно сделать опрометчивый вывод, что проникновение Рюриковичей в Северо-Восточную Русь шло как бы само собой, без борьбы. Но это не совсем так, а если учесть, что большинство новых городов, особенно в Залесье, основывалось на месте старых поселений, у которых были свои владельцы, своя история, свои обычаи и свои представления о жизни и власти, то можно предположить, что процесс этот не обходился без борьбы.
Первый упоминаемый летописцами эпизод из истории Москвы подтверждает вышесказанное. Смелость и дерзость боярина Степана Ивановича Кучки имели веские причины, корнями уходящие в древность, когда складывались основные правовые и имущественные представления обитателей Красных сел.
Московское пространство в XII веке представляло собой пограничную область, где столкнулись два славянских потока: кривичи и ильменские славяне, с одной стороны, вятичи — с другой. Граница между теми и другими уже детально прослежена археологами. Река Москва служила примерной границей между ареалом расселения вятичей и кривичей. Однако в районе Москвы поселения вятичей переходили речную границу и вторгались в кривическую зону большим «мешком». По заключению А. В. Арциховского, «Московский уезд, за исключением небольшого куска на севере, был вятическим»[3].
Это пограничное положение Московского пространства сказалось на всей его истории, на формировании города и характере его жителей. Пограничье — очень интересное место. Поезжайте на стык Тульской, Московской и Рязанской областей… Даже в скоростном XX веке в пограничных районах, селах, деревнях нет городского шума, люди живут степенно, размеренно, славы не ищут, к труду относятся, как к волшебному целительному средству от всех недугов душевных и телесных, как к единственному способу жить достойно. Психология жителей пограничных районов бесхитростна и может показаться даже чрезмерно простой. Но вот что интересно — в этих пограничных районах, в российской глухомани рождаются удивительно сильные люди!
Москва тоже прошла стадию становления в глухомани, на пограничье нескольких княжеств: Ростово-Суздальского, Рязанского, Новгородского, Смоленского, Полоцкого, более того, Москва родилась на пограничье мировых эпох, когда, с одной стороны, практически все народы Евразии были поражены междоусобицей, а с другой — в Забайкалье уже родился Чингисхан (1155 год). Между прочим, очень символично, что через год после рождения Тэмуджина Юрий Долгорукий повелел возвести крепостные стены на Боровицком холме.
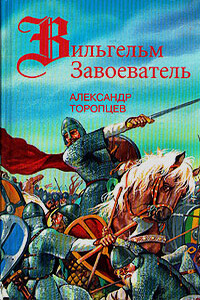
К середине XI века силы викингов резко пошли на убыль. Последний крупный «морской король», норвежец Харальд Суровый решился на отчаянную военную авантюру. До этого в течение сорока лет боев он одержал очень много побед. Дюк Нормандии Вильгельм тоже редко проигрывал, как и король Англии Гарольд. Именно этим трем сильным людям выпала судьба закрыть веер викингов и передать его в руки истории, которая готовила странам Европы, Африки и Азии новые испытания.В романе современного русского писателя Александра Торопцева, написанного специально для серии «Викинги», по-новому осмысливаются эпоха викингов, их значение в мировой истории и истории Севера…
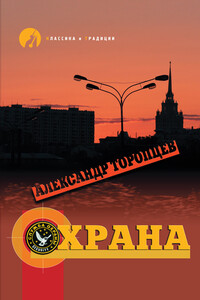
Роман Александра Торопцева «Охрана» повествует о нелегких судьбах офицеров, летчиков, работников силовых структур, военных специалистов – конструкторов, ученых, создателей первоклассной техники и вооружений, оказавшихся после развала нашей страны и армии буквально не у дел. Многие из них вынуждены были в достаточно молодом и пожилом возрасте устроиться охранниками в частные фирмы и компании, организовывать собственные предприятия, так сказать, приобщаться к бизнесу. О любовных и криминальных перепетиях, о том, как охранники выживают в новых условиях, рассказывает автор романа, хорошо знающий среду, изображенную с яркими, достоверными подробностями.Книга рассчитана на широкий круг читателей.
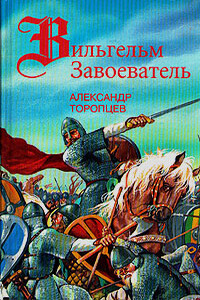
К середине XI века силы викингов резко пошли на убыль. Последний крупный «морской король», норвежец Харальд Суровый решился на отчаянную военную авантюру. До этого в течение сорока лет боев он одержал очень много побед. Дюк Нормандии Вильгельм тоже редко проигрывал, как и король Англии Гарольд. Именно этим трем сильным людям выпала судьба закрыть веер викингов и передать его в руки истории, которая готовила странам Европы, Африки и Азии новые испытания.В романе современного русского писателя Александра Торопцева, написанного специально для серии «Викинги», по-новому осмысливаются эпоха викингов, их значение в мировой истории и истории Севера…
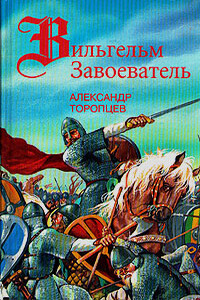
К середине XI века силы викингов резко пошли на убыль. Последний крупный «морской король», норвежец Харальд Суровый решился на отчаянную военную авантюру. До этого в течение сорока лет боев он одержал очень много побед. Дюк Нормандии Вильгельм тоже редко проигрывал, как и король Англии Гарольд. Именно этим трем сильным людям выпала судьба закрыть веер викингов и передать его в руки истории, которая готовила странам Европы, Африки и Азии новые испытания.В романе современного русского писателя Александра Торопцева, написанного специально для серии «Викинги», по-новому осмысливаются эпоха викингов, их значение в мировой истории и истории Севера…
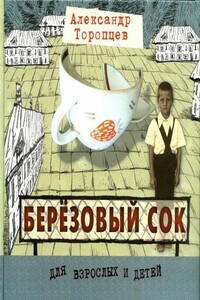
Повести Александра Торопцева рассказывают о жилпоселке, каких по всей России много. Мало кто написал о них так живо и честно. Автору это удалось, в его книге заговорили дети и взрослые, которые обычно являются лишь слушателями и зрителями. Эти истории пронизаны любовью и щемящей ностальгией по детству и дружбе.
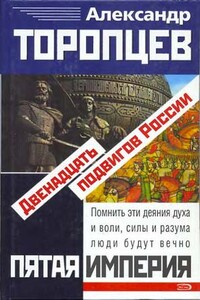
Уже много лет нам усиленно внушают комплекс национальной неполноценности. Если верить некоторым «властителям дум», история нашей страны беспросветна и кровава, а в прошлом у нас — лишь ужасы, преступления и «рабство».Всё это — враньё!На самом деле Россия — едва ли не самый успешный проект в мировой истории. Нам есть чем гордиться. Нам есть о чём помнить. История России — это история величайших военных, государственных и духовных подвигов. Наши предки построили не просто государство — целую цивилизацию. Наша страна неизменно поднималась после всех поражений и катастроф, всегда восставала, как Феникс, из пепла.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Серия очерков полковника Анатолия Леонидовича Носовича (1878–1968) — о вражеских вождях и о вражеской армии. Одно ценно — автор видел врагов вблизи, а некоторые стороны их жизни наблюдал изнутри, потому что некоторое время служил в их армии: в мае 1918 года по заданию Московской подпольной белогвардейской организации поступил на службу в Красную армию, в управление Северо-Кавказского военного округа. Как начальник штаба округа он непосредственно участвовал в разработке и проведении операций против белых войск и впоследствии уверял, что сделал все возможное, чтобы по одиночке посылать разрозненные красноармейские части против превосходящих сил противника.

На протяжении нескольких лет мы совместно с нашими западными союзниками управляли оккупированной Германией. Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.

Александр Иванович Гучков – один из самых крупных политических деятелей дореволюционной России, член Государственной Думы и Государственного совета, лидер влиятельной партии «октябристов», в 1917 году – военный и морской министр Временного правительства; с 1913 года он входил также в Военную масонскую ложу.Именно Гучков являлся автором и организатором дворцового переворота, целью которого было, используя связи с рядом военачальников (М. В. Алексеевым, Н. В. Рузским и др.), заставить Николая II отречься от престола.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.