Московские улицы. Секреты переименований - [3]
«У Всех Святых на Кулижках, что в Кожухове за Пречистенскими вороты, в Тверской ямской слободе, не доходя Таганки, на Ваганке, в Малых Лужниках, что в Гончарах на Воргунихе, у Николы в Толмачах на Трех горах…»
«За Яузой на Арбате, на Воронцовском поле, близ Вшивой горки, на Петровке, не доходя Покровки, за Серпуховскими воротами, позади Якиманской, не доходя Мещанской, в Кожевниках, прошедши Котельников, в Кисловке под Девичьим, в Гончарах, на Трех горах, в самых Пушкарях, на Лубянке, на самой Полянке…»
В основе московской топонимики, определившей ее черты и особенности, лежат два принципиально важных обстоятельства.
Первое – московская топонимика, складываясь и развиваясь на протяжении многих веков, всегда сохраняла верность исторической традиции.
Второе – до 1918 года не существовало никакого властного административного органа, который диктовал бы свои законы топонимическому процессу в Москве. Названия давались жителями, утверждались общественным мнением. Это был своеобразный жанр фольклора, поэтому бытовал и развивался по законам фольклора, подвластный лишь народной воле.
С того времени, как человек поселился на московской земле, появились и названия, данные окрестным селениям и осваиваемым угодьям – лесным, пахотным, выпасам, речкам и ручьям. Поселения и места, имевшие «имя», в древности назывались урочищами, от глагола «урекать», то есть нарекать, называть.
История московских названий начинается задолго до того, как Юрий Долгорукий поставил здесь крепость и основал город. Она начинается в незапамятные времена. Слово «незапамятные» здесь употреблено в его фольклорном значении: то есть во времена очень-очень далекие, неопределимые точной датой, но память-то о них как раз и сохраняется в названиях. Некоторые из названий урочищ дошли да наших дней, став названиями улиц.
«Древняя топография города, – пишет историк Москвы И.Е. Забелин, – имела иной вид и представляла больше живописности, чем теперь, когда под булыжною мостовою везде исчезли сохраняемые только в именах церковных урочищ поля, полянки и всполья, пески, грязи и глинища, мхи, ольхи, даже дебри, или дерби, кулижки, т.е. болотные места и самые болота, кочки, лужки, вражки – овраги, ендовы – рвы, горки, могилицы и т.п., а также боры и великое множество садов и прудов. Все это придавало древней Москве тип чисто сельский, деревенский; на самом деле во всем своем составе она представляла совокупность сел и деревень, раскинутых не только по окраинам, но и в пределах городских валов и стен».
В первых московских названиях отразились преимущественно географические особенности местности: сведения о характере рельефа – возвышенностях и низинах, о глинистых или песчаных почвах, растительности, речках и ключах.
Но в названии всегда была отражена какая-то черта именно данного места. Это стало первым правилом создания истинно московских топонимов. В каждом дореволюционном по происхождению московском топониме обязательно содержатся указание на какую-то приметную деталь, особенность этой местности, если сейчас и не существующую, но когда-то существовавшую. Идя по улице Неглинной, вы можете быть уверены, что здесь текла река Неглинка, в настоящее время спрятанная в трубу, а в Николопесковском переулке под асфальтом – песчаный холм.
О московских холмах и возвышенностях говорят названия: Краснохолмская набережная, улицы Большие и Малые Кочки; о низких местах – Вражские переулки (вражек – старая форма слова овраг), Сивцев Вражек и Балканский переулок (о слове балкан А.Н. Островский писал как о московском областном, которое обозначает «продол между лесом и нагорьем»). Название Болотная площадь отметило, что здесь некогда было болото; Полянка действительно была полем, а Спасопесковский и Спасоглинищевский переулки свидетельствуют, что первый стоит на песке, второй – на глине.
О лесах, среди которых возникла Москва, сообщают Боровицкая площадь и Елоховская улица (елоха – ольха). Название Дербеневской набережной говорит о том, что здесь был густой лес – непроезжие дебри.
Некоторые улицы носят названия речек и ручьев, некогда протекавших по городу, а теперь заключенных в трубы и спрятанных под землей. Самая известная из них – Неглинка, текущая под улицей Неглинной, пересекаемой улицей Кузнецкий мост. («Неглинок», по объяснению В.И. Даля, «болотце, болотистая местность с родниками».) Сейчас ни реки, ни моста – одни названия. А полтораста лет назад еще были и река, и мост. Профессор Московского университета И.М. Снегирев, вспоминая юность, первые годы XIX века, рассказывает про Кузнецкий мост, как на нем «сиживали нищие и торговки с моченым горохом, разварными яблоками и сосульками из сахарного теста с медом, сбитнем и медовым квасом – предметом лакомства прохожих». Чечерский и Капельский переулки названы по речкам Чечере и Капле, протекавшим здесь и сейчас текущим в трубе под землей.
Названия старинных сел также со временем стали городскими топонимами. В духовном завещании Ивана Калиты находим названия сел, которые сейчас хорошо известны каждому москвичу: Ясеневское, Ногатинское, Коломенское как московские топонимы.
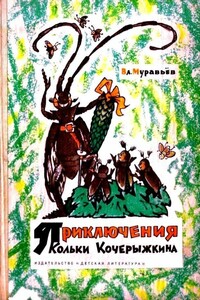
Таинственный лес, полный загадок и открытий, темная, полная силы и мудрости дубрава, ельник с раскидистыми лапами елей, бор с высокими стенами сосен, роща с молодыми тонкими веточками деревьев и сочной мягкой зеленью… Ой, да это же Пионерская роща, та самая, которую посадили школьники и на которую готовится наступление полчищ жуков из Короедска-города жуков в книге Владимира Муравьева «Приключения Кольки Кочерыжкина ».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Николай Михайлович Карамзин — великий российский историк и писатель, реформатор отечественной словесности. Создатель бессмертной повести «Бедная Лиза», он не только положил начало новому литературному направлению — сентиментализму, но и определил дальнейшие пути развития отечественной литературы. Однако главным трудом всей его жизни по праву считается двенадцатитомная «История государства Российского», подвижническая работа, в которой автор впервые во всей полноте раскрыл перед читателями масштабную картину нашего прошлого.
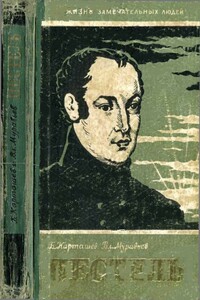
О династии Пестелей, основателем которой в России был саксонский почтовый чиновник, о декабристе Павле Ивановиче Пестеле, о его деятельности в Союзе спасения и Союзе благоденствия, в Южном обществе, об участии в восстании — рассказывает книга Б. Карташева и Вл. Муравьева.
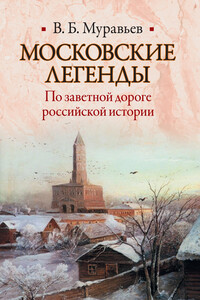
…Все современники царя Петра Великого давно умерли. Секрет бессмертия знал только один чернокнижник Яков Брюс. Он продолжал жить в Сухаревой башне, покуда большевики не выгнали его оттуда при сносе башни. С тех пор Брюс ходит по улицам Москвы… Вместе со старейшим писателем-москвоведом В. Б. Муравьевым читателю предстоит отправиться по московским улицам от Кремля и до Мытищ на поиски не только чернокнижника Брюса, но и многих других исторических и легендарных персонажей. Пусть читатель сам решит — что в них правда, а что всего лишь плод многовековых фантазий… В этой книге рассказывается история не только улиц и площадей, но и многих городских домов, которые встречались на пути к Троице.
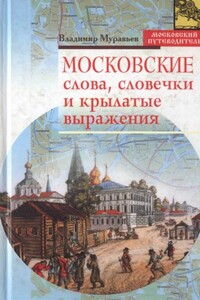
Книгу известного писателя и исследователя столицы нашей родины, председателя комиссии «Старая Москва» Владимира Муравьева с полным правом можно назвать образцом «народного москвоведения», увлекательным путеводителем по истории и культуре нашего города. В ней занимательно и подробно рассказывается о чисто московских словах и словечках, привычках и обычаях, о родившихся на берегах Москвы-реки пословицах и поговорках, о названиях улиц и переулков и даже о традиционных рецептах московских блюд.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.