Монголы - [5]
.
Генеалогические разделы всех этих летописей (в сопоставлении с другими источниками) дают уникальный материал для этногенетических выводов. С. А. Козин справедливо заметил, что вводная часть хроник «есть не что иное, как положенная на письмо „словесная устная наука родословий"»: [Козин, 1948, с. 97]. Для монголов того времени было характерно стремление сохранить в памяти потомков деяния предков, заботливое отношение к родовым связям и традициям. Знатоки генеалогий, как известно, досконально изучавшие все родственные связи своих фамилий и их ответвлений за многие поколения, бережно передавали эти знания детям.. Именно поэтому родословные, книги имеют значение первоисточника. Сравнивая их между собой и с другими источниками, можно проследить хронологию раянего периода монгольской истории, межплеменные и родовые: связи и отношения (соседские, родственные, брачные, враждебные и т. п.). В решении этого круга вопросов значение таких родословных книг трудно переоценить. Полнота и точность сведений в них обусловливаются близостью описываемых событий ко времени жизни автора и родственными связями составителя, причем о родах, с которыми он в более близком родстве, пишется подробнее, чем о других. Такая манера описаний очень помогает при анализе материала родословных книг. Она сразу вводит исследователя в круг интересов автора, ярко характеризует его симпатии, антипатии, политические убеждения, религиозные представления, его этническую принадлежность, а также позволяет проследить генеалогическую связь знатного рода £ правителями великих держав прошлого. (Подробнее об историографии монголов см. [Бира, 1978].)
Лингвистические материалы раннего периода развития монгольских языков содержатся в многочисленных словарях ХШ— XIV вв. и позднее. . К ним относятся «Словарь Мукаддимат. ал-адаб» и «Словарь Йбн-Муханны», а также памятники (связные -Тексты) на квадратной письменности, введенной в период династии .Юань (1269 г,), найденные в Поволжье стихотворные
П
тексты на бересте и монгольские тексты в китайской транакрип-цйи из словаря «Хуа-и и-юй», опубликованные и переведенные Хайсигом Лигети и др.
Важными для данной темы источниками служат тюркские рунические тексты, впервые обнаруженные в Монголии в 1889 г. Н. М. Ядринцевым и названные по месту их находки «орхон-скими памятниками». Все эти' памятники относятся к VIII в., надписи сделаны на тюркских языках того времени. В этих текстах названия племен и народов не искажены китайской транскрипцией, поэтому тюркские памятники могут служить связующим звеном между сведениями китайских источников эпохи династии Тан и более поздними монгольскими источниками.
В древнетюркских памятниках отражены события более раннего времени, в них описываются отношения между тюрками и их соседями, есть много сведений историко-этнографического характера, что позволяет уловить этнопсихологические черты тюркских племен той эпохи. Тюркские памятники дают возможность очертить ареал распространения тюркских языков в ту эпоху, а также косвенно свидетельствуют о расселении нетюркских народов в пределах соседних регионов. Переводы и публикация тюркских рунических памятников и более поздних на уйгураком и арабском алфавитах осуществлены С. Е. Маловым [Малов, 1951, 1959].
История народов Центральной Азии до X в. с наибольшей полнотой отражена в китайских письменных источниках. Китай, несмотря >на сооружение Великой стены, не был отделен от своих кочевых и полукочевых северных соседей.
С незапамятных времен Китай периодически посылал в ставки крупных вождей своих эмиссаров, которые сообщали китайскому двору все, что удавалось узнать. Эти сведения хранились в архиве. Первые вести о вновь появлявшейся в поле зрения китайского двора этнической группе были не всегда точны. Впоследствии они дополнялись и уточнялись. Собирались данные и обо всех народах, присылавших посольства в Китай. В случае появления нового племени китайские авторы пытались установить, кто были его предки, каково их первоначальное название, сообщали сведения о языке, расселении, способе ведения хозяйства, быте, обрядах, верованиях, нравах, обычаях. Сведения эти часто отрывочны, но ценность их несомненна>4.
Из китайских источников наибольшую ценность для данной работы представляет «Юаныпи» («История династии Юань»). Она существенно отличается от «Сокровенного сказания», осо» бенно в ее генеалогической части, которая начинается лишь с праматери монгольских родов Алун-Гоа. В ней отсутствует генетический ряд, начинающийся в «Сокровенном сказании» от Бортэ-Чино, зато значительно полнее представлены события, касающиеся межплеменных распрей XII в. Очевидно, «Юань-ши» сохранила для потомства сведения, составленные в тот период, когда династия монголов уже не нуждалась в «знатных предках», не принадлежавших к собственно монгольским родам. Поэтому все сомнительные в смысле родства с монголами группы были исключены из родословных книг.
Особенно существенную роль для нашей темы играют материалы китайских официальных историй киданей (Ляо), чжур-чжэней (Цзинь) и монголов (Юань). Еще при династии Сун появились первые сочинения об этих северных соседях Китая. В основу «Цидань гочжи» («Описание киданьского государства») легли документы о киданях, сообщения путешественников о них (так называемые дорожники). В «Ляочжи» («Описание Ляо») также рассказывалось о киданях, их стране и обычаях, одежде, календаре, легендах и мифах. Основой сочинений о Ляо послужили, возможно, подлинные документы, которые могли быть первоначально написаны на киданьском языке и лишь позднее переведены на чжурчжэньский или китайский. Известно, что кидани имели не только свою письменность, но и богатую литературу, в том числе и историческую. До настоящего времени дошли только немногочисленные памятники кидань-ской письменности, не дешифрованные до сих пор [Рудов, 1963, с. 90]. Широкое распространение письменности и литературы киданей позволяет думать, что они собирали документы для своей истории, которые могли лечь в основу «Ляоши» («История Ляо»), «Ляоши» содержит большое количество описаний обрядов, верований, обычаев, легенд, а также тексты документов, указов, докладов чиновников и другие материалы. В ней много упоминаний о соседних народах.

Земная цивилизация достигла критического порога, и потеря людьми интереса к космосу лишь вершина айсберга. Первые космические программы имели ясную цель, объявленную Циолковским: расселение человечества по Солнечной системе. Сейчас цель потеряна как для развития космонавтики, так и для человечества в целом. Оно должно сдать экзамен на разумность и обеспечить себе переход на новую ступень развития.(«Техника-молодежи», № 8/2004)

Азию мы называем Азией, а Антарктиду – Антарктидой. Вот Фарерские острова, но нам лучше на Канарские. Слова, известные со школы, звучат, будто музыка: Гренландия и Исландия, Миссури и Ориноко, Босфор и Дарданеллы. С чем и с кем связано то или иное географическое название – кто так назвал, когда и почему? Знать бы! И удивлять других: «Кстати, о Миссисипи…»Эта книга раскрывает многие историко-географические тайны. Рассказы о происхождении названий географических объектов часто оказываются посильнее детективных романов.
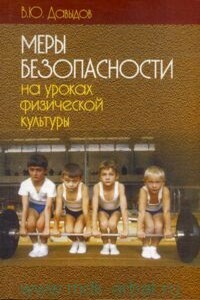
Настоящее пособие знакомит учителей физической культуры с нормами санитарно-гигиенического режима, мерами пожарной безопасности на уроках физкультуры. В нем представлены нормативные акты, формы документов, извлечения из методических указаний, правил и инструкций по охране труда, регламентирующие безопасность проведения физкультурно-оздоровительной, учебной и внеклассной работы в образовательных учреждениях; показан порядок и правила проведения инструктажей по мерам безопасности.Пособие предназначено для студентов, преподавателей, учителей физической культуры и школьников.
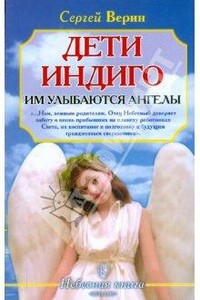
Эта книга о наших детях, о происшествиях и явлениях, связанных с ними и выходящих за рамки традиционного мировосприятия.Вас, уважаемый читатель, ждут встречи с героями невероятных историй, удивительными людьми, участниками и очевидцами феноменальных событий, необъяснимых с точки зрения логики и «приземленного» мышления.Также вы получите возможность побывать в гостях у известной духовной целительницы Зины Ивановны, побеседовать с ней, вместе проанализировать почерпнутую информацию. Эта необычная женщина будет комментировать те удивительные истории, которые рассказаны на этих страницах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.