Момемуры - [73]
Различие, многообразие и борьба за влияние разных кругов обеспечивает их противоборство, создающее неожиданные конъюнктуры, — доброжелатели того или иного круга (что опять же было вызвано недеклассированностью оппозиционных писателей) могли занимать достаточно высокое положение в официальной иерархии и споспешествовать своему кругу.
На круги была разбита не только нонконформистская среда, но и артисты, обласканные властями. Этим можно было пользоваться. Сношения с заграницей были также облегчены. Альпийские горнолыжники увозили под пухлыми свитерами объемистые рукописи; договоры, заключенные на свежем воздухе, скреплялись здоровым московским морозцем. Издать книгу за «бугром», то есть за отделяющим Москву от Европы горным хребтом, было легче, чем — по непереводимому московскому выражению — «nassat na dva palza». Власти к московским нонконформистам относились весьма снисходительно. Не до того. Они спешно заделывали брешь в «бугре», тайно прорубленную альпинистами-диссидентами, ибо сквозь нее, воспользовавшись суматохой и замешательством, успело пробраться большое число контрабандистов-скалолазов, в основном космополитов, которые явно незаконным способом увозили с собой принадлежащие государству золотые головы, голосовые связки, сердце и другие органы, ухитряясь проглатывать их, пропускать через носоглотку или другим путем засовывать внутрь. Это был валютный товар и государственная проблема, по сравнению с которой богема была полевыми цветочками, что обильно росли по долинам и по взгорьям, конечно, не очень крутым, но живописным.
В Петербурге из-за неудачного географического местоположения на болоте и равнине не было такого громоотвода, каким для Москвы являлись скалолазы, альпинисты и контрабандисты, что отвлекали на себя внимание, создавая живительную тень, благодаря которой быстро разросся оазис оппозиционной культуры. Здесь был чистый горный воздух, люди дышали полной грудью, были доброжелательны и не так эгоцентричны, как в проклятой Богом Северной Венеции. При общении москвичи излучали истинно московскую теплоту, как бы отдавая то, что они получали, находясь куда ближе к солнцу.
Это согревающее сердце тепло я ощутил во время самого первого своего чтения в Москве, устроенного в модном салоне одного московского писателя, жена которого была знаменитой московской актрисой одного популярного некогда, а теперь несколько потускневшего театра. Опять, по сути дела, невозможный ни для колонии, ни для Петербурга альянс сурового и непреклонного неофициального писателя и изнеженной, купающейся в волнах официальной славы актрисы. Пока я читал в просторной, со вкусом обставленной гостиной со множеством интересных вещиц и фотографий, развешенных на стенах (портреты запрещенных и полузапрещенных писателей, опальных поэтов и бардов, уютные семейные снимки в овальных и круглых рамочках орехового дерева; конечно, самая изысканная библиотека, трудно представимая даже в мыслях для живущего в колонии простого смертного), она, эта актриса, спала за плотно, как коленки молодой девицы, сведенными дверями своей спальни, и мне с ней так и не удалось познакомиться. Я всегда очень точно ощущал ту акустику, которую обретало то, что я говорил или читал; восприятие собеседника было для меня раковиной, которую я подносил к уху, тут же понимая, какой именно футляр приготовлен для моих слов (что, кстати, не раз спасало меня от необходимости метать бисер и говорить в пустоту). Не знаю, в какой мере это простое свойство присуще другим, но тот же г-н Прайхоф, самый длинный разговор с которым начался однажды возле его мастерской, когда мы усаживались на фуникулер, а затем продолжался во время длинного пути по канатной дороге и закончился ужином у него дома, утверждал, что никогда не слышит, как воспринимаются его слова, ибо совершенный в этом отношении глухарь; для меня же молчание обладало самым красноречивым языком — его анаграммы я разгадывал вслепую.
Должен признаться, что начал я читать с небольшим раздражением против моих слушателей. Меня попросили прочесть что-нибудь небольшой, только возникшей группе патриотически настроенных писателей, о которых незадолго до отъезда я услышал по западному радио, как о самых ярых сторонниках воссоздания великой России от моря и до моря. Месяц назад они выпустили в свет свой альманах, где были статьи и о нашей колонии, и по московскому обычаю устроили пресс-конференцию для иностранных журналистов. Когда меня приглашали, я представлял себе обширное собрание, свет и цвет московского интеллигентного общества (подобно тому, как за неделю до этого произошло в Петербурге), но, придя в назначенный час, нашел всего несколько скучающих субъектов, совершенно мне незнакомых и неясных по внешнему облику. Отказаться было неудобно, и я решил прочесть сорокастраничное эссе, составленное из отдельных отрывков, полагая, что, только почую неудачу, начну безбожно сокращать и отделаюсь стремительным блицем. Первые страниц пять я прочел в гнетущем недоуменном молчании, которое недвусмысленно намекало, что либо я разучился расшифровывать простейшие коды чужих впечатлений, либо этим московским олухам не нравится то, что я читаю. Я уже собрался было безжалостными ножницами внутреннего цензора кромсать свой текст, чтобы поскорее выползти наружу, как неожиданно в пространстве начались какие-то перестановки, отрокировались белые и черные, что-то побежало налево, что-то наперерез, тыл перестроился, фланги стремительно поменялись местами, а затем набухшее пространство приподнесло мне драгоценный приз в виде первого вздоха облегчения или тихого смешка. А еще через три страницы надо мной наконец замкнулся чуткий купол цельного восприятия: каждый оборот, который я интонировал уже по-свойски, воспринимался именно так, как воспринимал бы я сам, будь я на месте моих слушателей, только усиливался, точно изображение в выпуклом зеркале. Любое слово мягко облекалось соответствующим ему эхом, словно одевалось белой юбочкой дыхания при разговоре на морозе. Песочные часы ситуации перевернулись. Прекрасное ощущение воли, трудно с чем-либо сравнимой свободы: я был именно таким, каков есть на самом деле, и ощущал чудесный напор, заставлявший существовать в мощном напряжении, которое соседствовало с блаженным, разлитым по душе покоем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Н. Тамарченко: "…роман Михаила Берга, будучи по всем признакам «ироническим дискурсом», одновременно рассчитан и на безусловно серьезное восприятие. Так же, как, например, серьезности проблем, обсуждавшихся в «Евгении Онегине», ничуть не препятствовало то обстоятельство, что роман о героях был у Пушкина одновременно и «романом о романе».…в романе «Вечный жид», как свидетельствуют и эпиграф из Тертуллиана, и название, в первую очередь ставится и художественно разрешается не вопрос о достоверности художественного вымысла, а вопрос о реальности Христа и его значении для человека и человечества".
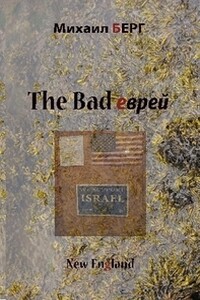
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Этот роман, первоначально названный «Последний роман», я написал в более чем смутную для меня эпоху начала 1990-х и тогда же опубликовал в журнале «Волга».Андрей Немзер: «Опусы такого сорта выполняют чрезвычайно полезную санитарную функцию: прочищают мозги и страхуют от, казалось бы, непобедимого снобизма. Обозреватель „Сегодня“ много лет бравировал своим скептическим отношением к одному из несомненных классиков XX века. Прочитав роман, опубликованный „в волжском журнале с синей волной на обложке“ (интертекстуальность! автометаописание! моделирование контекста! ура, ура! — закричали тут швамбраны все), обозреватель понял, сколь нелепо он выглядел».
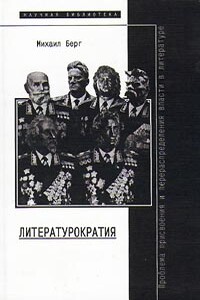
В этой книге литература исследуется как поле конкурентной борьбы, а писательские стратегии как модели игры, предлагаемой читателю с тем, чтобы он мог выиграть, повысив свой социальный статус и уровень психологической устойчивости. Выделяя период между кризисом реализма (60-е годы) и кризисом постмодернизма (90-е), в течение которого специфическим образом менялось положение литературы и ее взаимоотношения с властью, автор ставит вопрос о присвоении и перераспределении ценностей в литературе. Участие читателя в этой процедуре наделяет литературу различными видами власти; эта власть не ограничивается эстетикой, правовой сферой и механизмами принуждения, а использует силу культурных, национальных, сексуальных стереотипов, норм и т. д.http://fb2.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Две женщины — наша современница студентка и советская поэтесса, их судьбы пересекаются, скрещиваться и в них, как в зеркале отражается эпоха…

Жизнь в театре и после него — в заметках, притчах и стихах. С юмором и без оного, с лирикой и почти физикой, но без всякого сожаления!

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.