Момемуры - [33]
Он понравился мне при первой же встрече, хотя я пришел настроенным предубежденно, и отнюдь не сразу ему удалось это предубеждение рассеять. Помню, что шла свободная, светская беседа, где меня неприятно поражало обилие имен и названий книг, о которых я не имел ни малейшего представления: синьор Кальвино раскачивался в качалке с отличающим его удивлением во взгляде (что поначалу показалось мне признаком слабости, присущей неволевой натуре, но он почти с таким же добродушно-удивленным выражением мог говорить и ужасно неприятные собеседнику вещи) и втыкал в густую бороду красную женскую расческу. Оказывается, какие-то люди вокруг писали стихи и романы, частично изданные в России, частично ходящие в «списках», и одним синьор Кальвино, устраивая смотр, выдавал награды и призы в виде небрежных поощрений (правда, это значило немного, так как назавтра, в зависимости от контекста разговора, поощрение делало длинную рокировку с хулой), а я все не мог ощутить почву под ногами, плавал вокруг неизвестных названий, скользил по краям, все не умея выбраться на поверхность, повторяя движение сапога по наполненной жижей колее (ибо никак не мог понять — в какой мере то, что говорит Кальвино, заслуживает внимания). И ждал, когда он, наконец, выберется из трясины на твердую почву, где стоять мог и я.
Так же скептически я был настроен и по отношению к его стихам, которые он в конце концов вызвался прочесть. Я был не настроен слушать стихи и согласился из вежливости, как из вежливости соглашался и впоследствии, ибо всегда казалось, что поэтическая антология уже собрана, хватит того, что есть, и если при чтении глазами можно было лишь слегка касаться текста, цензурируя и пропуская целые неудобоваримые куски, то агрессивность чтения вслух всегда заставала врасплох и привлекала внимание поневоле. Он прочитал цикл своих стихов, и я не упал в обморок и не встал на колени, не забился в истерике сопереживания, но стихи мне понравились. Они понравились мне всерьез, и с этим ничего нельзя было поделать, так как я отнюдь не хотел, чтобы они пришлись мне по душе. И тут же все разбросанное и растрепанное, словно волосы, стало как бы кристаллизоваться вокруг этого впечатления, будто по вихрам прошлась расческа, которую Кальвино при чтении втыкал себе в бороду, а затем пытался пригладить густую шевелюру. Потом он читал при мне много раз, и почти всегда инстинктивно выставляемая преграда таяла ледяной хрупкой свежестью, и катилась теплая волна, смывая плотину недоверия и нежелания слушать именно сейчас какие-то рифмованные строки — с чего это вдруг именно сейчас предаваться поэтическим медитациям — и щепки, мусор смывались, оставляя — чаще всего — спокойную гладкую поверхность ослепительной ясности. Я знавал многих и неглупых людей, которых стихи Кальвино оставляли равнодушными, немало знал и его хулителей. Но принимать или не принимать стихи — частное и интимное дело. Для меня Кальвино почти сразу стал носителем настолько обязательного (для ощущения полноты) поэтического голоса, вроде скрипки в квартете, без которой нечего и играть, вернее, в игре будет зияющая дыра. Конечно, не все, что им писалось, нравилось мне одинаково, писал он много, а имея в виду удовлетворение моей потребности в его стихах, возможно, и чересчур много. Помню, как удивил он меня своим весьма претенциозным предисловием к только что написанному циклу стихов «Контурное море», когда он совершенно серьезно заметил, что предполагал издать эти тексты, проступающими на фоне географических карт бывших русских колоний, но его «типографские возможности ограничены», хотя это «не его вина». И сразу же начал с непонятной для меня жадностью выспрашивать и выуживать впечатления у простодушной дурочки-кореянки, у вялого толстяка с мутными глазами и у меня, которого совсем не знал. Для меня это был дурной тон. Я был убежден, что если пишущий постоянно оглядывается по сторонам и по-собачьи ищет одобрительного взгляда, это признак слабости не только натуры, но и творческого дара. Синьор Кальвино делал то, что я считал недопустимым, но его стихи мне нравились. Он делал многое из того, что мною отвергалось как дурной тон: читал стихи на улице, в автобусе, однажды под дождем у водосточной трубы на углу Сан-Ирэ и Сан-Эпифанио, любил прихвастнуть и быть в центре внимания, помещая себя в середину с точностью острой ножки циркуля, и делал то, что я считал совершенно невозможным: если я медлил выразить свою почти всегда одобрительную, но сдержанную реакцию, сам начинал выспрашивать: «ну, как вам понравилось, мне кажется, это лучшее из того, что я написал, у меня сейчас замечательное состояние». То есть пытался оказать на меня откровенное и наивное давление. А иногда распоясавшись, вернее, теряя контроль над самим собой, где-нибудь в разговоре давал понять или серьезно заявлял, что считает себя первым колониальным поэтом. Мол, такой-то — скажем, Кизеваттор, не понимал — как нужна эта прозаическая шероховатость; такой-то — скажем, Карлински — слишком рассудочен и примитивен, почти без околичностей намекая, что считает себя лучше. И абстрактно это являлось опасным свидетельством непростительной несдержанности, если не слабоумия. Но в отношении меня Кальвино повезло, и скоро я действительно стал почитать его равным самым лучшим современным поэтам, хотя мы и смотрели с разных сторон, и мне были интересны не только его стихи, но и другие (всего пять-шесть имен), и к каждому имелись свои претензии, и ни один голос не мог заменить другого; но скоро получилось так, что мой оркестр был уже набран, свободных вакансий нет, и пробиться даже свежему и интересному без протекции душевного движения (личной человеческой симпатии) было отнюдь не просто. Мне было совершенно безразлично, в какой мере мое мнение объективно, ибо на тот аукционе, который я был волен для себя устраивать, ничто не могло назвать цену моей субъективности, настолько она меня устраивала, и я с удовольствием любил то, что любил, не интересуясь тем, что меня не интересовало. Конечно, я не выдавал патенты на литературное бессмертие, но оно меня нимало не занимало, то, что я любил, становилось содержимым моего Ковчега. Да, литература — земное и шероховатое занятие, но при этом она еще и Млечный путь. Здесь каждый спасается в одиночку, выбирая себе товарищей по несчастью, и любая ошибка стоила слишком дорого, чтобы вербовать себе сторонников, гребущих в обратную сторону. Я слишком хорошо знал, что мне надо в этой жизни, и мой спасательный жилет должен был быть впору именно мне, а не кому-то еще.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Н. Тамарченко: "…роман Михаила Берга, будучи по всем признакам «ироническим дискурсом», одновременно рассчитан и на безусловно серьезное восприятие. Так же, как, например, серьезности проблем, обсуждавшихся в «Евгении Онегине», ничуть не препятствовало то обстоятельство, что роман о героях был у Пушкина одновременно и «романом о романе».…в романе «Вечный жид», как свидетельствуют и эпиграф из Тертуллиана, и название, в первую очередь ставится и художественно разрешается не вопрос о достоверности художественного вымысла, а вопрос о реальности Христа и его значении для человека и человечества".
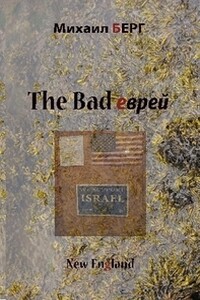
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Этот роман, первоначально названный «Последний роман», я написал в более чем смутную для меня эпоху начала 1990-х и тогда же опубликовал в журнале «Волга».Андрей Немзер: «Опусы такого сорта выполняют чрезвычайно полезную санитарную функцию: прочищают мозги и страхуют от, казалось бы, непобедимого снобизма. Обозреватель „Сегодня“ много лет бравировал своим скептическим отношением к одному из несомненных классиков XX века. Прочитав роман, опубликованный „в волжском журнале с синей волной на обложке“ (интертекстуальность! автометаописание! моделирование контекста! ура, ура! — закричали тут швамбраны все), обозреватель понял, сколь нелепо он выглядел».
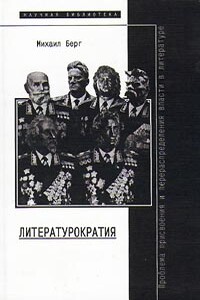
В этой книге литература исследуется как поле конкурентной борьбы, а писательские стратегии как модели игры, предлагаемой читателю с тем, чтобы он мог выиграть, повысив свой социальный статус и уровень психологической устойчивости. Выделяя период между кризисом реализма (60-е годы) и кризисом постмодернизма (90-е), в течение которого специфическим образом менялось положение литературы и ее взаимоотношения с властью, автор ставит вопрос о присвоении и перераспределении ценностей в литературе. Участие читателя в этой процедуре наделяет литературу различными видами власти; эта власть не ограничивается эстетикой, правовой сферой и механизмами принуждения, а использует силу культурных, национальных, сексуальных стереотипов, норм и т. д.http://fb2.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно было бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся… Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет ходят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состоится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся?

События в книге происходят в 80-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда Советский цирк по праву считался лучшим в мире. Когда цирковое искусство было любимо и уважаемо, овеяно романтикой путешествий, окружено магией загадочности. В то время цирковые традиции были незыблемыми, манежи опилочными, а люди цирка считались единой семьёй. Вот в этот таинственный мир неожиданно для себя и попадает главный герой повести «Сердце в опилках» Пашка Жарких. Он пришёл сюда, как ему казалось ненадолго, но остался навсегда…В книге ярко и правдиво описываются характеры участников повествования, быт и условия, в которых они жили и трудились, их взаимоотношения, желания и эмоции.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.
