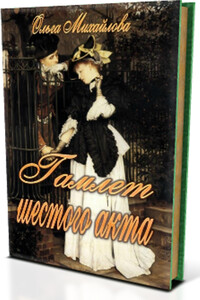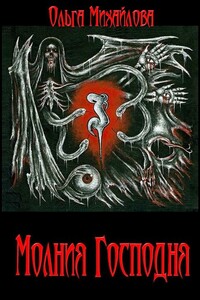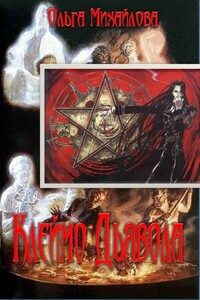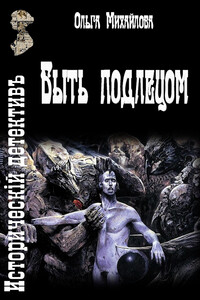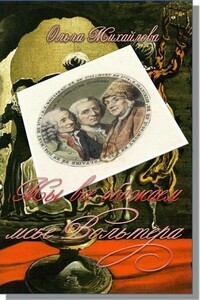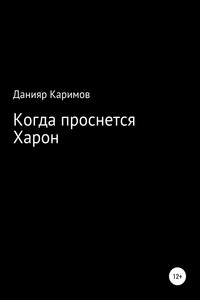Сергей Осоргин тоже злился и ничего не мог понять. Кто позволил этому наглому барину высказываться с таким апломбом? Сам он привык считать себя человеком, разорвавшим всякую связь с приличиями и условностями, истинным революционером. То, что приходилось работать в ненавистном министерстве — воспринимал как нечто случайное. Он помнил уроки революционного дела: «Все изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в революционере единою холодною страстью революционного дела». Он строго делил общество на категории. В первой были осуждённые, насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство, лишив его умных энергических деятелей. Вторая — из тех, кому временно даруют жизнь, дабы они зверскими поступками довели народ до бунта. К третьей принадлежали высокопоставленные богатые и влиятельные скоты, которых надо опутать, сбить с толку и по возможности сделать рабами. Четвертая состояла из государственных честолюбцев и либералов, коих требовалось скомпрометировать и их руками мутить государство. Пятая категория — доктринёры и революционеры, праздно-глаголющие в кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать в действия, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящий отбор немногих.
Юлиана Нальянова Сергей отнёс бы, безусловно, к первой категории, но это значило признать, что этот барин умён, а признавать этого не хотелось. Дибича Осоргин причислил к третьей, при этом младший Осоргин и не подозревал, что в подполье его самого относили к пятой категории.
Сергей оглядывал и девиц. Их тоже предписывалось делить на три разряда. Первые, пустые и бездушные, которыми можно пользоваться, другие — преданные, но не доросшие до революционного понимания, и, наконец, женщины вполне посвящённые, свои. Невесту брата Сергей не ставил и в грош — ни рыба, ни мясо, такая не попадала ни в одну из категорий, но Елену Климентьеву он сразу занёс в первую категорию, Аннушку — во вторую, туда же попала и Машка Тузикова и Ванда Галчинская. А вот Анастасия Шевандина, которой было явно тошно слушать этого лощённого мерзавца, была совсем своей, это он чувствовал. При этом было и ещё кое-что в словах этого лощёного барина, что сильно взволновало Сергея, но он надеялся, что это ему просто померещилось…
Тем временем Нальянов повернулся к Дибичу. Тот же наблюдал за Еленой Климентьевой, и, когда перевёл взгляд на Нальянова, покраснел. Юлиан тут же опустил глаза. К удивлению Дибича, ему было явно неловко.
Нальянов поднялся было, однако, путь ему преградила Аннушка Шевандина. Она со странным вызовом спросила его, в чём он видит предназначение женщины? Нальянов оторопел от неожиданности, потом пожал плечами и ответил, что никогда не задумывался об этом. Заметив потемневший взгляд Анны, брошенный на Нальянова, и покрасневшую Марию Тузикову, Илларион Харитонов поспешно заметил, что это и так понятно.
— Предназначение женщины — возбуждать в мужчине пыл благородных страстей, поддерживать чувство долга и стремление к высокому — и это назначение велико и священно.
Нальянов неожиданно улыбнулся, любезно, хоть и чуть шутовски кивнул Харитонову, как бы соглашаясь с ним. Дибич же спросил Анну, в чем она сама видит женское предназначение? Анна ненадолго смутилась, но её перебила сестра Анастасия.
— Не думаю, Анна, что это интересно господину Нальянову.
— Вы, конечно, скажете, что дело женщины — семья и кухня? — не обращая никакого внимания на реплику сестры, спросила Анна. — Вы презираете женщин, да?
Нальянов улыбнулся беззлобно, но чуть насмешливо.
— Ну, что вы, Анна Васильевна, как можно?
— И какие же женщины вас нравятся? — поинтересовалась та.
Дибич не сомневался, что на этот вопрос последует резкая отповедь, но Нальянов снизошёл до вежливого ответа.
— Смиренные, кроткие, целомудренные, — отчётливо и очень серьёзно проронил он.
— Смиренные? — возмутилась, едва не взвизгнув, Мария Тузикова, отчего брезгливо поморщились Елена Климентьева и Анна Шевандина. — Что за вздор? Неужто, если женщина несчастна, не понята и чахнет в неподходящем ей браке, душа её должна приноситься в жертву прописной морали, провозглашающей нерушимость брака и «покорность» мужу? Неужели лучше лгать и продолжать совместную жизнь с нелюбимым, недостойным человеком, чем честно и свободно соединить своё существование с тем, кого любишь?
— Насильно у нас замуж не выдают, — пожал плечами Нальянов. — И причём тут счастье? Женщин надо научить в мягкости быть твёрдыми, в терпении — неколебимыми, в преданности — стойкими. Вот и будет им счастье.
— Вы просто не знаете любви! — взвилась мадемуазель Тузикова. — Тому, кто постиг равенство мужчин и женщин перед Богом, любовь откроется во всем её величии, но пропитанному грубыми предрассудками и тому, кто ищет лишь волнений крови, а не идеала, любовь не откроется никогда!
— Тут вы правы, наверное, — кивнул Нальянов, хоть Дибичу было довольно трудно понять, с чем именно он согласился.
— Значит, вы не признаете за женщинами никаких прав? — тихо спросила Елена. Её голос раздался в гостиной впервые за весь вечер.