Мои записки для детей моих, а если можно, и для других - [2]
Я распространился о старой няньке своей, потому что влияние еe на образование моего характера считаю довольно сильным, и потому еще, что после я не встречал подобной няньки, и не мог найти для своих детей няньки, хотя сколько-нибудь похожей на мою Марьюшку. Теперь перейду к другим влияниям, которыe начали действовать, когда уже я стал вырaстать. Важное влияние на образование моего характера оказала тихая, скромная жизнь в доме отцовском, отсутствие всяких детских развлечений; сестры мои, как я уже сказал, были гораздо старше меня, их скоро отдали в пансион, и я по целым дням оставался совершенно один; вот почему, когда я выучился читать, то с жадностью бросился на книги, которыe и составляли мое главное развлечение и наслаждение. Восьми лет записали меня в духовное училище с правом оставаться дома и являться только на экзамены: сам отец учил меня дома закону Божию, латинскому и греческому языкам, для других же предметов я посещал классы коммерческого училища. В последнем учили плохо, но зато я получил больше средств доставать книги и предаваться моей страсти к чтению. Я читал все без разбора, читал романы всякого рода, и Гуака, и Радклиф, и Нарежного, и Загоскина, и Вальтер-Скотта; раннее чтение романов было мне вредно: оно сильно распалило мое воображение и, по всем вероятностям, много препятствовало укреплению моего организма. Но очень скоро, однако, врожденная склонность взяла верх: между книгами отцовскими я нашел всеобщую историю Бассалаева, и эта книга стала моей любимицей: я с ней не расставался, прочел ее от доски до доски бесконечное число раз; особенно прельстила меня римская история. Велико было мое наслаждение, когда после краткой истории Бассалаева я достал довольно подробную историю аббата Милота, несколько раз перечел и эту, и теперь еще помню из нее целые выражения. Единовременно, кажется, с Милотом попала мне в руки и история Карамзина: до тринадцати лет, т. е. до поступления моего в гимназию, я прочел ее не менее двенадцати раз, разумеется, без примечаний; но некоторые тома любил я читать особенно, самые любимые тома были: шестой — княжение Иоанна III, и восьмой — первая половина царствования Грозного; здесь действовал во мне отроческий патриотизм: любил я особенно времена счастливыe, славныe для России; взявши, бывало, девятый том, я нехотя читаю первыe главы и стремлюсь к любимой странице, где на полях стоит: «Славная осада Пскова». Живо помню, как я ненавидел Батория; по целым дням мечтал я: а что если б вдруг сам царь Иван принял начальство над войском, и разбил бы Батория, взял бы опять и Полоцк, и Ливонию? Представлялось живо, с каким торжеством Иван въезжает в Москву, везя пленного Батория. Мечталось мне и то: а что если по какому-нибудь счастливому случаю отыщут продолжение истории Карамзина? Двенадцатый том мне не очень нравился, именно потому, что в нем описываются одни бедствия России, и как нарочно автор остановился там, где должен начаться счастливый поворот событий. Вместе с книгами историческими любимым чтением моим были и путешествия. Несколько раз прочел я многотомную «Историю о странствованиях вообще», а также «Всемирного путешествователя».
II
Таковы были мои занятия до тринадцати лет; я уже сказал, что в коммерческом училище учили плохо, учителя были допотопные. Дома отец мой не имел времени заниматься со мной постоянно; давши мне в руки латинскую и греческую грамматику, он часто по нескольку недель не требовал от меня отчета в том, что я из нее выучил; но какая же охота была долбить: amo, amas, amat, и (greek characters) — мальчику, который постоянно или защищал Псков от Батория, или вместе с Муцием Сцеволою клал руку на уголья, или с Колумбом открывал Америку? Обыкновенно, каждый день по нескольку часов я держал перед собою латинскую грамматику, но внутри ее лежала другая книжка поменьше, обыкновенно какой-нибудь роман. От этого происходило, что когда отец вдруг начнет меня спрашивать или задаст задачу, т. е. перевод с русского на латинский или греческий, то я отвечал плохо, и в задачах моих «аористы» сильно страдали. То же самое случалось и на экзаменах в духовном уездном училище, которое помещалось в Петровском монастыре. Поездки на эти экзамены были самыми бедственными событиями в моей отроческой жизни, ибо кроме того, что на экзаменах большей частью отвечал неудовлетворительно, что огорчало моего отца, само училище возбуждало во мне сильное отвращение по страшной неопрятности, бедному, сальному виду учеников и учителей, особенно по грубости, зверству последних: помню, какое страшное впечатление на меня, нервного, раздражительного мальчика, произвел поступок одного тамошнeго учителя: кто-то из учеников сделал какую-то вовсе незначительную шалость; учитель подошел, вырвал у него целый клок волос и положил их перед ним на стол. Я чуть-чуть не упал в обморок от этого ирокезскoго поступка.
Здесь я должен сказать несколько слов о состоянии того сословия, из которoго я произошел. В своей истории подробно объясню причины печальнoго состояния русского духовенства. Главная причина заключалась в том, что при перевороте (Петровском) духовенство не имело возможности удержать за собою то положение, каким пользовалось в древней России. Прежде священник имел духовное преимущество по грамотности своей, теперь он потерял это преимущество; правда, он приобрел школьную ученость, но со своей односторонней семинарской ученостью, со своей латынью он оставался мужиком пред своим прихожанином, который приобрел лоск образования, для которoго сфера всякoго рода интересов, духовных и материальных, расширилась, тогда как для священника она расшириться не могла. Священник по-прежнему оставался обремененным семейством, подавленным мелкими нуждами, во всем зависящим от своих прихожан, нищим, в известные дни протягивающим руку под прикрытием креста и требника. Выросший в бедности, в черноте, в избе сельскoго дьячка, он приходил в семинарию, где также бедность, грубость, чернота, с латынью и диспутами; выходя из семинарии, он женился, по необходимости, а жена, воспитанная точно так же, как он, не могла сообшить ему ничего лучшeго; являлся он в порядочный дом, оставлял после себя грязныe следы, дурной запах, бедность одежды, даже неряшество, которые бы легко сносили, даже уважали в каком-нибудь пустыннике, одетом бедно и неряшливо из презрения к миру, ко всякой внешности; но эти бедность и неряшество не хотели сносить в священнике, ибо он терпел бедность, одевался неряшливо вовсе не по нравственным побуждениям; начинал он говорить — слышали какой-то странный, вычурный, фразистый язык, к которому он привык в семинарии, и неприличие которого в обществе понять не мог; священника не стали призывать в гости для беседы в порядочные дома: с ним сидеть нельзя, от него пахнет, с ним говорить нельзя, он говорит по-семинарски. И священник одичал: стал бояться порядочных домов, порядочно одетых людей; прибежит с крестом и дожидается в передней, пока доложат; потом войдет в первую после передней комнату, пропоет, схватит деньги и бежит, а лакеи уже несут курение, несут тряпки: он оставил дурной запах, он наследил, потому что ходит без калош; лакеи смеются, барскиe дети смеются, а барин с барыней серьезно раcсуждают, что какие-де наши попы, как-де они унижают религию!
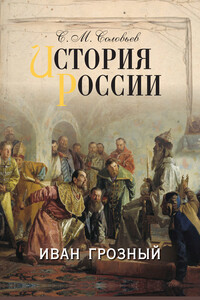
Сергей Михайлович Соловьев – один из самых выдающихся и плодотворных историков дореволюционной России. Его 29-томное исследование «История России с древнейших времен» – это не просто достойный вклад в сокровищницу отечественной и мировой исторической мысли, это практически подвиг ученого, равного которому не было в русской исторической науке ни до Соловьева, ни после. Книга «Иван Грозный» рассказывает о правлении первого русского царя Ивана IV Васильевича. Автор детально рассматривает как внешнюю и внутреннюю политику, так и процесс становления личности самого правителя. Это иллюстрированное издание будет интересно не только историкам, но и широким кругам читателей. В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.В книге представлены избранные главы из «Истории России с древнейших времен» Сергея Михайловича Соловьева и «Краткого курса по русской истории» Василия Осиповича Ключевского – трудов замечательных русских историков, ставших культурным явлением, крупным историческим фактом умственной жизни России, в нынешний нелегкий момент нашей истории вновь помогающих нам с позиций прошлого понять и осмыслить настоящее.
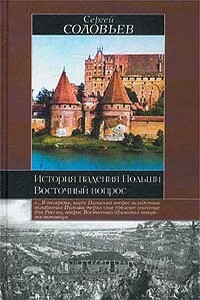
К середине 18 века Речь Посполитая окончательно потеряла свое могущество в Восточной Европе и уже не играла той роли в международных делах региона, как в 17 веке. Ее соседи напротив усилились и стали вмешиваться во внутренние дела Польши, участвуя в выдвижении королей. Власть короля в стране была слабой и ему приходилось учитывать мнение влиятельных аристократов из регионов. В итоге Пруссия, Австрия и Россия совершают раздел Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 годах. Русский историк Сергей Соловьев детально описывает причины и ход этих разделов.
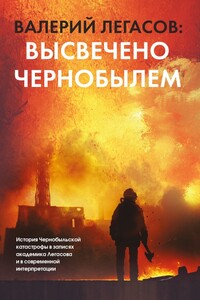
Чернобыльская катастрофа произошла более 30 лет назад, но не утихают споры о её причинах, последствиях и об организации работ по ликвидации этих последствий. Чернобыль выявил множество проблем, выходящих далеко за рамки чернобыльской темы: этических, экологических, политических. Советская система в целом и даже сам технический прогресс оказались в сознании многих скомпрометированы этой аварией. Чтобы ответить на возникающие в связи с Чернобылем вопросы, необходимо знание – что на самом деле произошло 26 апреля 1986 года.В основе этой книги лежат уникальные материалы: интервью, статьи и воспоминания академика Валерия Легасова, одного из руководителей ликвидации последствий Чернобыльской аварии, который первым в СССР и в мире в целом проанализировал последствия катастрофы и первым подробно рассказал о них.
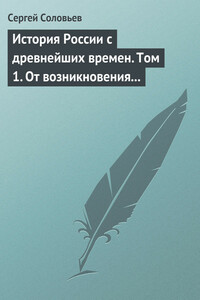
Эта книга включает в себя первый том главного труда жизни С. М. Соловьева – «История России с древнейших времен». Первый том охватывает события с древнейших времен до конца правления киевского великого князя Ярослава Владимировича Мудрого.
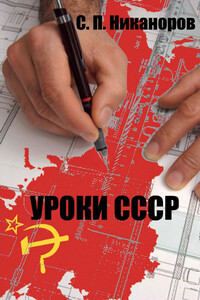
Работа является оригинальной попыткой найти систематическое разрешение противоречий между практикой образования социальных форм, создаваемых социалистической революцией при неблагоприятных условиях, и необходимым, но исторически неподготовленным, теоретическим обеспечением этой практики. Попытка проводится на примере истории возникновения, развития и угасания СССР.Уделяется большое внимание интеллектуальной подготовке читателя к изучению, освоению и применению знаний, приведенных в работе.Средством решения поставленной задачи является сопоставление фактографических основ интересующей практики и фактически применяемых теоретических представлений с потенциально необходимыми, но отсутствующими, теоретическими представлениями.Это позволяет объяснить особенности образования рассматриваемых социальных форм и сделать существенные выводы, называемые «уроками СССР», для подготовки к решению задач наступающего будущего.Рассматриваемая практика образования социальных форм описывается для трех эпох, которые называются «Эпохой Ленина», «Эпохой Сталина» и «Эпохой преемников Сталина».

Автор - Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г.Первое издание в России обширного исторического труда Андрея Андреевича Гордеева (1886–1977), потомственного донского казака, офицера-фронтовика, полковника Донской белоказачьей армии, с 1920 г. жившего в эмиграции. Еще при жизни автора (1968) его живо и увлекательно написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» – «тамги».
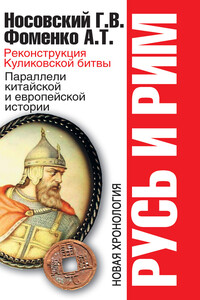
Сегодня мы хорошо знаем, как часто искажается история в угоду тем или иным сиюминутным веяниям. То же самое происходило и в прошлом, когда создавалась нынешняя версия древней и средневековой истории. Потом искажения застыли в виде «неопровержимых» истин, переходя из учебника в учебник. И нужно затратить много труда, чтобы сбить позднейшую штукатурку с подлинной картины нашего прошлого.Принятая сегодня версия русской истории и хронологии не свободна от глубинных ошибок и противоречий. Если мы хотим узнать правду о нашей истории, придется отказаться от множества вбитых нам со школьной скамьи предрассудков.В первой главе авторы предлагают реконструкцию русской истории и хронологии, основанную на методах Новой хронологии.

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.

Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.