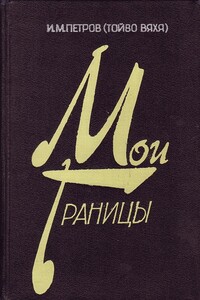Мои границы - [3]
— Почему же мы, товарищ командир, нынче на правый фланг ходим почти что через левый? Это ж сколько солдатским ногам лишку махать!
— Не через левый фланг, а лесом и кустарниками в тыл, чтобы жители поселка не заметили, а уж после поворачивайте на правый участок. Разве так сложно?
— Выходит, мы и своим гражданам доверять не можем. Чудно!..
Да, без веры в народ и жить бы не стоило, но, веря в народ и в интересы народа, мы банки и сберкассы на замок закрываем, не показываем образцов ключей и мест их хранения. Веря в народ, мы и границу охраняем, но никому не говорим, как это делается; даже в случае, когда у населения помощи просим, стараемся ограничить знания каждого пределами, необходимыми только ему. Читал где-то: «Солдат должен знать свой маневр». Хорошо бы и тут — свой маневр, но не больше!
На границе сложились особые обстоятельства, и она — не замкнутый самодовлеющий микромир, а частица государства, острейшим образом реагирующая на его требования и нужды. На нашем участке половина маленького села из двух десятков домов отошла соседнему государству, и жители той половины, что за разрушенным мостом, превратились в подданных чужой страны. Но ведь еще совсем недавно люди жили единой семьей, ежедневно встречались, на одной земле трудились, вместе радовались рождению ребенка и провожали на погост усопших. Общая была радость, общее и горе. А тут — граница! Не подходи к ней, даже не узнать, не захворал ли земляк, и записку не передать.
Родства и привязанностей между людьми граница не стерла, а тут еще такие заманчивые условия сложились, одно искушение, можно сказать. У нас плохо с питанием, одеждой, с предметами первого пользования, а там, за мостом, — всего навалом. Как громко звучит в такой ситуации шепоток спекулянта, контрабандиста: «Жить не умеете. На денежном ящике, можно сказать, без денег сидите!»
И как тут устоять крестьянской душе?
В одном из документов, переданных ротным командиром, говорилось:
«Контрабандный промысел… стал профессиональным занятием пограничных крестьян, являющихся в этом случае лишь сравнительно мелкими поставщиками контрабандного товара для более солидных торговцев, контрабандистов-оптовиков».
По каждому поводу с лекцией выступать не будешь, ограничиваешься самым нужным:
— Границу доверили нам, пограничникам. Ни ваших, ни своих ног жалеть не буду, если интересы страны требуют напряжения. Человеку с больными ногами на границе делать нечего. Если не сумеете пробиться на охраняемый участок незамеченными, то вернитесь в кордон. Маячить там не будем.
Так из раза в раз, пока дело не стало налаживаться, пока, хотя и медленно, навыки караульной службы не стали вытесняться приемами охраны государственной границы.
Строевые командиры в те годы политических занятий еще не проводили. Это была забота политрука роты, раз в две недели навещавшего кордоны. В остальные дни изучались уставы и наставления, материальная часть оружия, тут же тактическая подготовка, особенно сложная из-за малочисленности людей и неосвоенности новых тактических приемов, выдвинутых переходом на «групповую тактику», подсказанную учебником С. С. Каменева «Огневая рота».
В редкие свободные вечерние часы политбоец, умеющий хорошо читать, знакомил слушателей с материалами газет, в меру собственных знаний разъяснял редкие слова, труднопонимаемые обороты речи и термины. Эти «громкие чтения» были одним из самых решающих каналов проникновения большевистской правды в малограмотную красноармейскую среду.
Случалось, чтения превращались в вольную беседу, которая в конечном счете сводилась к одному и тому же вопросу — к чему стремились, чего хотели и чего достигли…
Вскоре пришел ротный политрук и с ходу объявил: «За вами я пришел, товарищи бойцы. Дивизию отводят в тыл, а старослужащие, которые так много и славно воевали, отпускаются домой, на отдых».
Я покривил бы душой, утверждая, что это сообщение вызвало у красноармейцев одну только бурную, безоговорочную радость. Напомню: шел 1923-й, и было о чем задуматься солдату, который завтра станет крестьянином.
Надо отдать должное политруку: не пытался сузить круг вопросов, не обрушивался на тех, кто высказывал сомнения, стоило ли проливать столько крови, чтобы в деревнях вернуться почти к тому же, с чего начали, — батрачеству. Он сидел на единственной табуретке, за тем, сколоченным из патронных ящиков, столом, слушал и делал какие-то заметки. А казарма шумела:
— Пять лет как воюю. И под Казанью был, на Перекопе, Булак-Балаховича пощупал и тут уже второй год. Устал, и раз мы буржуев побили, то и армии делать нечего. Пора по домам…
— По домам, говоришь? Богач ты, что ли, либо болван? Я не меньше твоего воевал, а ехать мне некуда. Еще в том годе сестренка писала: отцу лошадь дали и землю отрезали. Корова раньше была, и теперь от нее телка. Но вернуться не приглашала, и знаю почему. У родителей еще двое сыновей, под двадцать им. Жирно мужиков на одну лошадь! А ехать придется, покорми, мол, батя, пару ден, а там в батраки пойду. Весна на дворе, наймут, поди…
— У меня и того нету. Писал еще в тот голод, а письмо вернули, и было сказано, что померли все мои. Если бы в город податься…
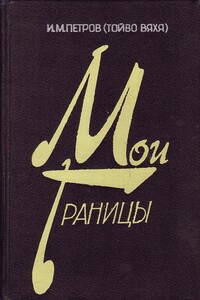
Повесть «Второй эшелон» и рассказы «След войны» посвящены Великой Отечественной войне. За скупыми, правдивыми строками этой книги встает революционная эпоха, героическая история нашей страны.
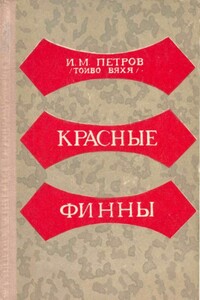
В книге три документальных повести. В первой — «Красные финны» — И. М. Петров вспоминает о своей боевой молодости, о товарищах — красных финнах, которые после поражения революции в Финляндии обрели в Советской России новую Родину. В «Операции «Трест» автор рассказывает о своем участии в одноименной чекистской операции, в повести «Ильинский пост» — о своей нелегкой пограничной службе в Забайкалье в 30-е годы.
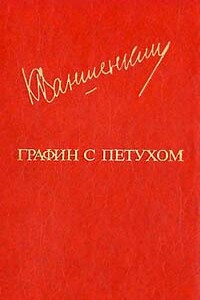
Книга прозы известного советского поэта Константина Ваншенкина рассказывает о военном поколении, шагнувшем из юности в войну, о сверстниках автора, о народном подвиге. Эта книга – о честных и чистых людях, об истинной дружбе, о подлинном героизме, о светлой первой любви.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
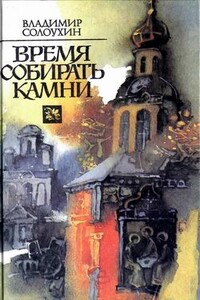
В книгу Владимира Алексеевича Солоухина вошли художественные произведения, прошедшие проверку временем и читательским вниманием, такие, как «Письма из Русского Музея», «Черные доски», «Время собирать камни», «Продолжение времени».В них писатель рассказывает о непреходящей ценности и красоте памятников архитектуры, древнерусской живописи и необходимости бережного отношения к ним.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.