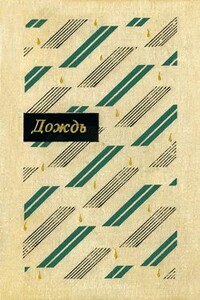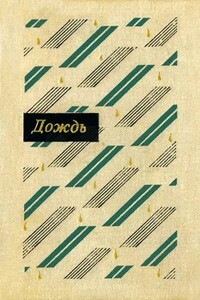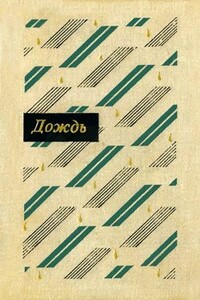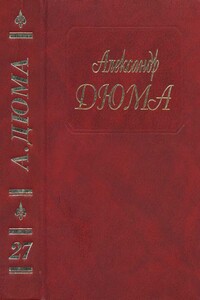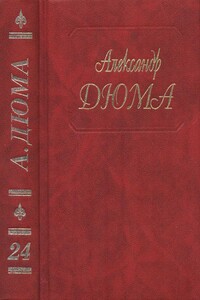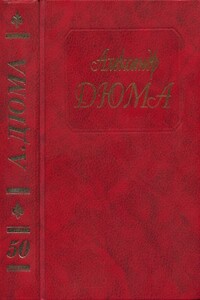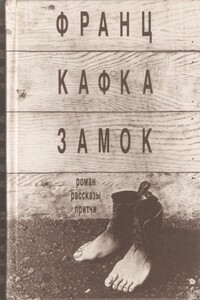Неожиданно он повернулся к Дяо Цзы-дуну:
– Неси кисть и тушь!
– Что?! – Дяо Цзы-дун вздрогнул и снова ударился затылком о стену. Однако тотчас же бросился выполнять приказание, а в голове неотступно вертелось: «Только бы их отсюда спровадить, только бы спровадить…»
Сразу наступила тишина. На улице залаяли собаки – одна, другая, третья, – будто в деревне появился чужак.
Несколько десятков пар глаз впились в руку праведника, который, закусив губу, кистью выводил иероглифы… Пусть отправляются с этим листком на заливные поля и требуют у охраны[4] открыть амбары… Писал праведник одно, а на уме у него было совсем другое. Теперь он знал, как справиться с этими негодяями. Безмозглые боровы!
«Есть два способа утихомирить народ, – часто поучал он своих учеников. – Первый – это одурачить его, как одурачивают разбушевавшихся свиней; стоит позвать их: «дю-дю-дю», – как они сразу угомонятся, совсем не обязательно кормить их рисом. А не удалось одурачить, тогда надо прибегнуть к оружию – это способ более жестокий. Словом, поцеремониться немного, а потом пусть испытают на своей шкуре закон сторожевых постов».
Чтобы спровадить людей, Ши пошел на уступки, а вдогонку им пошлет стражу для расправы. Завтра нескольких арестуют, и силы крестьян будут подорваны.
Рука праведника дрожала, пока он писал, и он едва не выронил кисть.
Крестьяне, однако, и не думали расходиться.
– Возьми, брат Гао-сань, записку и беги на дамбу. Как уладится все, дай знать, мы здесь подождем.
Тот, кого назвали Гао-санем, схватил записку.
– Ждите от меня вестей. Если до рассвета не дождетесь, знайте…
Тело праведника обмякло, перестало ему подчиняться. Зубы стучали. Вдруг он выхватил браунинг и с такой силой нажал на спусковой крючок, что заныл палец.
Раздался выстрел.
Кто-то пронзительно вскрикнул. Толпа разом подалась назад.
– Монах Ши, ты стрелял?
Его назвали «монах Ши» и к имени не добавили почтительное «праведный».
Это вывело из оцепенения Сюй Хун-фа, Пи-эра и всех остальных: праведный Ши – всего-навсего монах, самый обыкновенный человек! Все пережитое разом нахлынуло на людей. Чаша терпения переполнилась…
– Эй, Ши! Так вот ты, оказывается, какой!.. Ты… ты!
– Он и сегодня думал одурачить нас, он хотел…
– Держите его!
Кто-то вырвался из толпы и с яростью вцепился в праведника.
«Стрелять», – мелькнуло в его голове, но было поздно.
– Смотрите, как бы не сбежал монах Дяо!
– Убить эту сволочь! Это ты звал Бодисатву, ты, поганое отродье! Ты! Ты! Ты!
Вырваться монахи не могли: их крепко держали за руки и за ноги, осыпая ударами, разбивая в кровь лица.
Кто бы мог поверить, что крестьяне с таким остервенением бьют монахов, да еще приговаривают:
– Не жить вам, до смерти забьем!
У дверей двое поддерживали раненого. Пуля попала ему в грудь. Кровь из раны капля за каплей медленно стекала на пол. Несчастный корчился в судорогах, лицо его покрылось мертвенной бледностью.
– Надо вынести его на воздух!
– Воды! Скорей воды!
Праведник и его ученик никак не могли вырваться, несмотря на отчаянные попытки.
– Хватит! Довольно! А-а!! – беснуясь, кричали они.
– Бодисатва, ай-а! Разгневали Бодисатву! Бодисатва поразит вас громом! Мы сейчас же… мы…
– Теперь нам все едино, все едино!
– Монах поганый! Паршивец!
– А ну, смелей! Убьем их и двинемся к дамбе, чтобы открыть амбары!
В доме все было опрокинуто вверх дном, пол дрожал от топота ног.
– Бей!
– Отомстим за Гао-саня! Отомстим!
Стол с треском разлетелся на куски. На пол попадали чашки и рюмки.
В доме стало темно.
Дяо Цзы-дун стонал, но его никто не слышал. Праведник бился в судорогах.
– Ну, кончать надо! Хватит с ними возиться!
– К дамбе! К дамбе!
Спустя несколько минут по деревне разнеслись частые удары гонга: дон-дон-дон-дон…
Эти звуки разорвали черную ночь и заставили содрогнуться землю.
1935