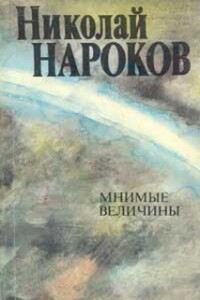Могу! - [10]
Юлия Сергеевна, казалось, слушала небрежно. Но подняла голову и, стараясь говорить безразлично, спросила:
— Какой же вывод, по-вашему?
— А вывод, — тотчас же с удовольствием подхватил Табурин, — вывод может быть только один: биологически человек многобрачен. Вот! И если все люди всегда вели себя многобрачно, то в этом я не вижу ни распущенности, ни развратности, а вижу только естественный закон. Да-с! Нравится вам это или не нравится, но если вы не хотите закрывать глаза и прятать голову в песок, то извольте признать это положение, а не подчинять природу нашей шаткой морали! Ведь если я, предположим, во имя этой морали начну требовать, чтобы люди при дыхании усваивали не кислород, а азот, потому что кислород, дескать, безнравственен, то вы меня, пожалуй, в сумасшедший дом посадите и будете правы. А если кто-нибудь во имя той же нравственности начнет требовать, чтобы у каждого петуха была только одна своя курица, то и его вместе со мной сажайте в сумасшедший дом: не ошибетесь! Мораль! Мораль! — на самом деле рассердился он. — А на чем она основана? На одних только человеческих измышлениях? Сегодня на одних, завтра на других, на Востоке на третьих, а на Западе на четвертых? Так такой морали грош цена! Не признаю такую мораль! Протестую! Долой! — разгорячился он.
— А какую же нравственность вы способны признать? — словно подшучивая над ним, спросила Юлия Сергеевна.
Табурин вдруг стал совершенно серьезен. Даже что-то строгое появилось в его глазах.
— Только ту, — значительно ответил он, — которая лежит в духовной природе человека и руководит им. Человек не знает, что такое добро и зло, но он это чувствует. Всегда чувствовал и всегда будет чувствовать. Так вот: я признаю ту мораль, которая идет от этого чувствования. Только ту!
— Да замолчите же! — не выдержала Елизавета Николаевна. — Это… Это… Это прямо из рук вон, что вы говорите!
И опять опасливо посмотрела на дочь.
Глава 5
Федор Петрович Ив изменил свою фамилию, когда принял эквадорское гражданство: лет 7–8 назад. Как он назывался раньше, когда жил перед войной и после войны в Европе, не знал никто, в иммиграционных же документах он значился под фамилией Иванова. Но Табурин, делая страшные глаза, уверял, что он совсем не Иванов, а Дьяволов.
— По глазам вижу, что он Дьяволов! И по углам рта тоже! Разве у людей такие углы рта бывают? Колоссально — Дьяволов!
Ив был невысокого роста, но плотный, широкоплечий и кряжистый. Г олову слегка наклонял вперед, смотрел исподлобья и крепко упирался ногами в пол, когда стоял. Весь он был твердый: смотрел твердо, говорил твердо, кулаки сжимал твердо. Голос у него был глуховатый, брови насуплены, а зубы он, вероятно, всегда крепко сжимал, потому что скулы у него были напряжены и торчали желваками. Говорил он короткими фразами, спокойно, невыразительно и уверенно, причем почти никогда не смотрел на того, с кем говорил.
О его прошлом не знал никто, и никто, конечно, его об этом не спрашивал: чувствовалось, что такого человека спрашивать о нем самом нельзя. Знали только, что он и Софья Андреевна приехали из Европы в Эквадор, но жил он почти постоянно в Соединенных Штатах. В Эквадор он приехал, не в пример всем русским эмигрантам, очень богатым человеком. Его капиталов, конечно, никто не знал, но когда о них говорили, то, не стесняясь, называли цифру с шестью нулями. Передавали друг другу, что в годы войны он вел крупные дела с железом в Швеции, и не сомневались в том, что эти дела были темные и что шведская полиция не вмешивалась в них только оттого, что Швеция очень осторожно и щепетильно охраняла свой нейтралитет и не допускала открытых скандалов.
— Чью же сторону он держал, немцев или союзников? — пытались узнать наивные люди.
— Сторону своего кармана! — поясняли им.
Людям (даже совсем посторонним) казалось, что в жизни Ива и в нем самом есть какая-то тайна. И это было странно, потому что по видимости никакой тайны быть не могло, и ничто о ней не свидетельствует: человек ведет крупные дела, но засекречивает их лишь настолько, насколько засекречивают их все деловые люди. Однако в тайне, и притом подозрительной, мрачной и чуть ли не уголовной, не сомневались и к самому Иву подходили с осторожностью, избегая близости и даже чего-то опасаясь.
Встречаясь с ним, люди чувствовали себя неуверенно, не знали, о чем говорить, непонятно для себя настораживались и под разными предлогами старались сократить встречу. Он никому не сделал дурного, но многим казалось, что именно дурного от него и следует ждать. И было непонятно: почему людям так казалось?
Некоторые утверждали, будто Ив — советский человек и бежал из СССР за год или два до войны. Кем он был в Советском Союзе, как и почему бежал, не знал никто, догадки же о нем и всевозможные слухи были чересчур фантастические. Некоторые любопытные доходили даже до того, что считали его лицом, приближенным к Ягоде, тайно работавшим в НКВД и исполнявшим там особые задания. Эти фантазеры утверждали, будто именно он сыграл видную роль в той группе, которая вела следствие по делу убийства Кирова, и по приказу самого Сталина провела это следствие так, что правда об убийстве была тщательно спрятана.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
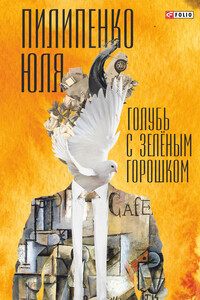
«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дорогой читатель! Вы держите в руках книгу, в основу которой лег одноименный художественный фильм «ТАНКИ». Эта кинокартина приурочена к 120 -летию со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Ильича Кошкина и посвящена создателям танка Т-34. Фильм снят по мотивам реальных событий. Он рассказывает о секретном пробеге в 1940 году Михаила Кошкина к Сталину в Москву на прототипах танка для утверждения и запуска в серию опытных образцов боевой машины. Той самой легендарной «тридцатьчетверки», на которой мир был спасен от фашистских захватчиков! В этой книге вы сможете прочитать не только вымышленную киноисторию, но и узнать, как все было в действительности.
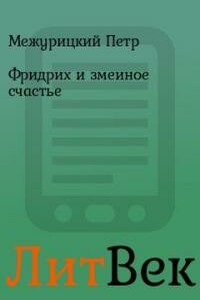
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.