«Моцарт и Сальери» в «Маскараде» - [3]
Каждый образ этого монолога полон глубинного символического смысла. Яд Сальери — орудие убийства, но вместе с тем «последний дар» возлюбленной, видимо, умершей, — и тем самым он получает значение своеобразного смертоносного талисмана. Яд-талисман может быть использован только однажды и только в момент высшего наслаждения или высшей обиды. В первом случае он удовлетворяет «жажду смерти» Сальери: он уйдет из жизни, сознавая, что испытал миг высшей жизненной полноты, который больше не повторится. Так намечается мотив самоубийства, маниакально преследующего Сальери. Во втором случае яд предназначен «злейшему» врагу, — возникает мотив убийства.
Как и в «Выстреле», все парадоксально в этом монологе, все складывается из полярных противоположностей, странным образом переходящих друг в друга и взаимно обусловленных. Возлюбленная — источник жизненных радостей — при последнем прощании дарит избраннику орудие смерти; страшный подарок не лишает его жизненных сил, а, кажется, лишь укрепляет их и еще более привязывает его к «его Изоре». В «Пире во время чумы» Пушкин коснется этого психологического феномена:
«Жажда смерти» и жажда наслажденья, более всего наслаждения творчеством, искусством, ради которого Сальери готов пожертвовать всем, безоглядно и бескорыстно, — два противоположных полюса, организующие его духовный мир.
Моцарт — вот та точка, где непостижимым образом сошлись все линии, которым, казалось, не суждено было сойтись. Он стал одновременно предметом и высшей художнической любви, и жесточайшей ненависти Сальери. Смерть его — разрешение всех противоречий, терзающих Мастера, — но лишь при одном условии: с его жизнью должна оборваться и жизнь самого Сальери и должен уйти в небытие драгоценный дар Изоры. Все это приносится в искупительную жертву будущему искусства; себе же Сальери готовит апофеоз смерти и наслаждения.
Чудовищный план, не лишенный, однако, логической красоты и своеобразного мрачного величия!
Но дан ли он реально в пушкинском тексте? Наделяя Сальери чертами носителя этакой инфернальной философии смерти, не искажаем ли мы самый пушкинский замысел? Ведь «Моцарт и Сальери» — трагедия зависти, и сам Сальери, по его же словам, переживает это мучительное чувство. Бросив яд в стакан Моцарта, он испытывает облегчение от содеянного и — более того — наслаждается последним шедевром своей жертвы:
Все верно — ив описанном нами виде «план Сальери» в трагедии, конечно, не существует. В описании он неизбежно схематизирован и огрублен; Пушкин же принципиально избегает жестких конструкций. Но как некая модель, на которую ориентированы сюжетные линии, он присутствует, — и присутствие это сказывается в оттенках, акцентах, придающих словам, репликам, сценам расширительное значение, даже отмечая их иной раз своего рода модусом неопределенности. Известны слова Пушкина о характерах Шекспира, не укладывающихся в представления о единой, ведущей страсти: ревность Отелло происходит от доверчивости, скупость Шейлока — равнодействующая разнообразных и зачастую противоречивых «страстей». Через несколько лет он даст в «Анджело» анализ поведения «лицемера», в котором увидит необычайную глубину. «Жажда смерти» Сальери — не фикция; заявленная в его монологе, она не может вовсе исчезнуть в силу законов драматического действия: это то «ружье», которое непременно должно «выстрелить». Мотив не выявляется непосредственно; он проходит в подтексте, как это было и в «Выстреле», он проступает, «брезжит» уже в концовке монолога Сальери:
Обратим внимание, что в стихах Пушкина, особенно ранних, «чаша дружбы» и «чаша круговая» — то есть такая, из которой последовательно отпивают пирующие (даже если их только двое), — синонимичны. Так, в «Блаженстве» (1814) Сатир является пастуху,
Та же ситуация — в «Фавне и пастушке». Подобное словоупотребление встречается и в других стихах пушкинского времени. В послании А. А. Шишкова поэт мечтает о времени, когда он «позабудет скуку» с другом «за чашей круговой» («Н. Т. Аксакову»)[10]. Нельзя исключить, конечно, что это метафора со стирающимся значением, которую не следует понимать буквально; с другой стороны, обмен бокалами или питье из одного кубка — жест застольного этикета, известный еще древним римлянам: тот, кто пил здоровье собеседника, отпивал первым (в греческом ритуале — вторым) и передавал ему чашу

Двадцать лет назад, 30 июня 1958 года, известный лермонтовед проф. Семенов обратился к группе ленинградских литературоведов с предложением создать совместно «Лермонтовскую энциклопедию» — всесторонний свод данных о биографии Лермонтова, его творчестве, эпохе, о связях его наследия с русской литературой и литературами других народов, наконец, об истории восприятия его творчества последующей литературой, наукой и искусством.Л. П. Семенов скончался, не успев принять участие в осуществлении этого обширного замысла.

Творчество Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841) явилось высшей точкой развития русской поэзии послепушкинского периода и открыло новые пути в эволюции русской прозы. С именем Лермонтова связывается понятие «30-е годы» — не в строго хронологическом, а в историко-литературном смысле, — период с середины 20-х до начала 40-х годов. Поражение декабрьского восстания породило глубокие изменения в общественном сознании; шла переоценка просветительской философии и социологии, основанной на рационалистических началах, — но поворот общества к новейшим течениям идеалистической и религиозной философии (Шеллинг, Гегель) нес с собой одновременно и углубление общественного самоанализа, диалектическое мышление, обостренный интерес к закономерностям исторического процесса и органическим началам народной жизни.

Книга Э. Г. Герштейн «Судьба Лермонтова» не нуждается в специальных рекомендациях. Это — явление советской литературоведческой классики, одна из лучших книг о Лермонтове, которые созданы в мировой науке за все время существования лермонтоведения. Каждая глава в этой книге — открытие, опирающееся на многолетние разыскания автора, причем открытие, касающееся центральных проблем социальной биографии Лермонтова.
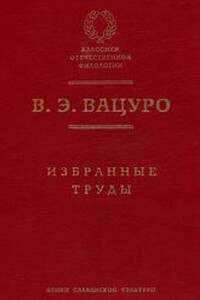
Публикуемые ниже стихотворные отклики на смерть Пушкина извлечены нами из нескольких рукописных источников, хранящихся в фондах Рукописного отдела Пушкинского Дома. Разнородные по своему характеру и породившей их литературно-общественной среде, они единичны и в исследовательском отношении «случайны» и, конечно, не в состоянии дать сколько-нибудь целостную картину борьбы различных социальных групп вокруг имени поэта. Тем не менее известные штрихи к такого рода картине они могут добавить и при всех своих индивидуальных различиях имеют нечто общее, что позволяет объединять их не только по тематическому признаку.
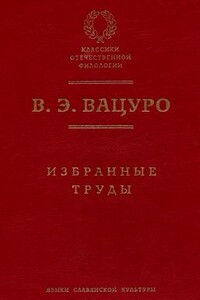
О литературном быте пушкинской поры рассказывается на материале истории литературного кружка «Сословие друзей просвещения». Приводится обширная корреспонденция членов кружка: Е. А. Баратынского, А. А. Дельвига, В. И. Панаева, О. М. Сомова.
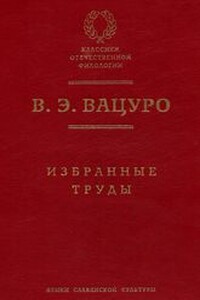
«Русский Мицкевич» — одна из центральных тем русско-польских литературных взаимоотношений, и совершенно естественно стремление исследователей сосредоточиться прежде всего на ее вершинных точках. Проблеме «Пушкин и Мицкевич», в меньшей степени — «Лермонтов и Мицкевич» посвящена уже обширная литература. Значительно меньше изучена среда, создававшая предпосылки для почти беспрецедентной популярности, которой пользовалось имя польского поэта в русской литературе и русском обществе 1820-х гг., — популярности, совпавшей со временем пребывания Мицкевича в Одессе, Москве и Петербурге.Предлагаемые читателю заметки — попытка литературно-исторического комментария к некоторым текстам Мицкевича и эпизодам их восприятия и интерпретации.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.

Когда лермонтовская «Бэла» появилась на страницах «Отечественных записок», Белинский писал: «Чтение прекрасной повести г. Лермонтова многим может быть полезно еще и как противоядие чтению повестей Марлинского».Слова Белинского были крайне значительны. К 1839 году назрела острая необходимость противопоставить романтизму Марлинского новый литературный метод с достаточно сильными представителями.

Пьеса А. Червинского «Из пламя и света» — крайне интересное произведение. Тематическое его содержание — история последней дуэли Лермонтова; во внутреннем монологе дается ретроспектива — воспоминания поэта об узловых эпизодах его духовной биографии.

Хотя со дня кончины Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 — 31 января 2000) прошло лишь восемь лет, в области осмысления и популяризации его наследия сделано совсем немало.

Первое, что ставит «Лермонтовские Тарханы» П. А. Фролова на особое место в краеведческой — да и научной — литературе, — совершенно неожиданный поворот темы. Это книга не о «Лермонтове в Тарханах» и даже почти что не о Лермонтове. Это книга о культурном мире тарханского крестьянина.