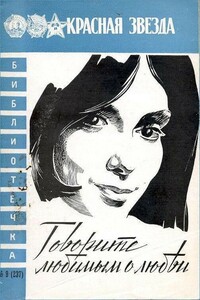Млечный Путь - [30]
Точно этого никто не подтверждал, но разговоры были. И это хоть немного, да утешало старого Винценты, Он этим только и жил теперь.
Дрянная была зима.
Тоскливо было на свете.
Про Бушмаров хутор Винценты больше не думал. От самой мысли этой его так и передергивало всего.
Так жил он, помаленьку очухиваясь. Все шло постепенно, тянулось так медленно!
Бушмару все больше становилось не по себе от взгляда Галениных глаз. Взгляд этот мало-помалу превращаться стал из игривого, по-женски лукавого в твердый и даже суровый. Она словно подчиняла его себе этим взглядом. Он не то, чтобы бояться начинал ее, а чувствовал в Галене что-то лишь ей присущее, чего она никогда не утратит, никогда не подчинит чужой воле.
Она часто подносила к нему сына:
— На, погляди. Видишь, у него брови такие же, что и у тебя, становятся.
— Ага, — отвечал он, касаясь пальцами не заросшего еще темечка ребенка.
Он сам начинал чувствовать, как тяжело разрушить тот холод, который возник между ними с того самого первого вечера, когда вернулся он из острога, и с того другого вечера, когда он, изувечив Винценты, сбежал к брату. После того Галена стала иной; когда он вернулся через неделю от брата, она сказала ему:
— Ну, убьешь ты меня или нет?
Он молчал.
— Скажи.
— Зачем тебе это?
— Хочу знать. Если это ты правду тогда сказал, дак я не буду ждать, а заберу ребенка и уйду.
— Ты, видно, хочешь довести меня до этого, коли вспоминаешь нарочно, что я когда сказал.
Он знал, что это она издевается над ним, мстит за его необдуманные слова. Видел, что она ни в чем в обиду себя не даст, что она даже слов простить не хочет. И это делало ее желанной ему более, чем когда-либо, однако же и более, чем когда-либо далекой. Отвращение ко всему росло в нем. И хуже всего, что теперь он начинал размышлять, по крайней мере, неосознанное появлялось где-то в глубине его существа стремление дознаться, где начало этой враждебности между ними. Враждебности, которая за короткое время осточертела им обоим, но избавиться от которой тоже было невозможно. Однако зачатки мыслей этих исчезали, едва появившись.
Бывали у них и хорошие минуты. Иногда, после долгой молчанки, они начинали разговаривать о чем-нибудь не очень важном и интересном теперь для обоих. Однажды, например, она сказала:
— Видно, прищепы в саду повымерзали, никто за ними не присмотрел за зиму.
— Не до этого было, — буркнул он, но почему-то поднял на нее глаза.
Видимо, было что-то в ее голосе теперь, что напомнило ему прежнее их время, когда еще он только поглядывал из окна, не слишком ли долго околачиваются возле хаты хлопцы, а она волновала его блеском глаз.
И они теперь стали говорить о всяких мелочах, радуясь не самому разговору этому, а какому-то примирению между ними. Но это действительно было лишь примирение. Ничего большего за ним не стояло. Так это и проходило, как появилось. Без следа и пользы.
Иногда Бушмару было безразлично все — и холодность жены и разлад всей жизни. Из этого-то все и рождалось, но заслоняло собою первопричину и само вырастало в нем, вытесняя остальное. Так часто бывало, и всякий раз тогда, когда Бушмар отрешался от всего на свете и оставался один. В последний раз такое нашло на него перед самым концом зимы, и на этот, раз покончило со всем прежним.
Зима тогда кончалась рано. Еще в конце февраля скопилась под снегом вода, и дороги стали пропадать. Бушмар под вечер приехал от брата. Страшно загнал, аж до пены, своего выездного коня. Сам промок в сыром тумане и был злой. Гнал коня по выбоинам и раскисшим ухабам и никому не уступал дороги (впрочем, и всегда у него была привычка такая). Дома как раз искра попала в порох:
— Зачем ты так над конем измываешься, налегке едучи? — сказала Галена.
— Что тебе до коня. Молчала бы!
— Почему молчала бы?
— Потому что… К черту!
Войдя в хату, он увидел, что Галена куда-то собирается. Он молча смотрел, что из этого выйдет. Она вдруг оставила свои сборы и легла спать.
— Ага, — заговорил он с диким торжествующим смехом, — напугала! Ну, что, напугала?
— Слушай, — отозвалась она, — я тебя не пугала и пугать не думаю. Да и не такой ты человек, чтоб тебя можно было напугать. К тебе никакой страх не пристанет… Ты сам видишь, что — разве ж это жизнь у нас? Это чтоб весь век в этаком пекле жить? Лучше мне уйти отсюда. Я давно говорила об этом с людьми. И с Амилею говорила, и со многими там… К ним и пойду.
— Дак ты уже говорила?! Давно уже думала об этом?! В моей хате все это творится, а я ничего не ведаю!..
Он кричал и топал ногами.
Он переночевал в ту ночь на кухне, на лавке, а утром исчез из хаты, чтоб не видеть ничего и не слышать. Он стоял в перелеске, один, угрюмый статью, но не угрюмый теперь лицом своим. Как зверь, на которого издалека откуда-то пахнуло волей. Ноздри его раздувались, брови сдвинулись, и из-под них глаза сверлили ветреную даль. Высокая, чуть сутулая фигура его долго возвышалась в перелеске.
Там, на солнце, снег сошел, и прошлогодняя трава зеленила свои вершины. Один кустик ее, молодой, весенний, белесый, угодил под Бушмаров сапог. Подкованный каблук глубоко вогнал его в землю.
Пока не вернулся, Бушмар не думал, совсем забыл про свою хату, и про Галену с сыном.
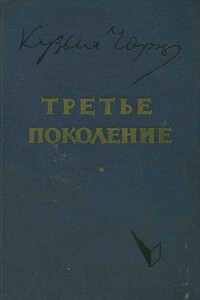
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
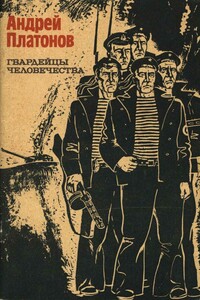
Цикл военных рассказов известного советского писателя Андрея Платонова (1899–1951) посвящен подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Советские специалисты приехали в Бирму для того, чтобы научить местных жителей работать на современной технике. Один из приезжих — Владимир — обучает двух учеников (Аунга Тина и Маунга Джо) трудиться на экскаваторе. Рассказ опубликован в журнале «Вокруг света», № 4 за 1961 год.

В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ю. Шесталова пошли широко известные повести «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка», «Тайна Сорни-най».Художнический почерк писателя своеобразен: проза то переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; древнее сказание соседствует с публицистически страстным монологом. С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей современностью.