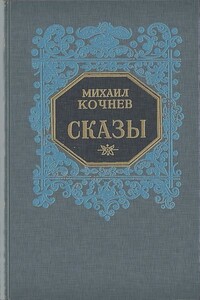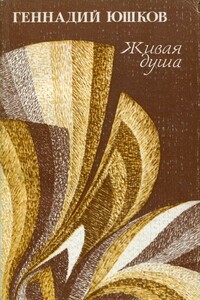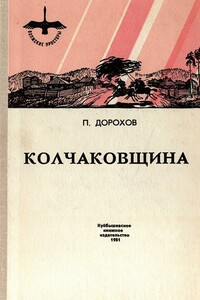в острог. За ними идет Аннушка, с узелком белым, а по щекам у нее слезы в два ручья.
— Нельзя ли на дорогу им каравашек да бельишко вот…
— Отдай.
Передала Аннушка узелок с хлебом и рубашками.
Харлампия и Ермилу сунули в каталажку. Утром входит тюремщик, глядит — пустая каталажка. Горбушка хлеба на столе. Обернулся — дверь сама открылась, и слышно, будто убегают по лестнице.
— Держи, хватай! — рявкнул тюремщик.
Стражники греются на солнце и в ус не дуют. Не видят, кого хватать-то. Дверь железная у тюремной стражи под носом отворилась — и поминай как звали Харлампия с Ермилой.
Ни в лес, ни в чужой город не побежали, но и на фабрику им путь заказан.
В тот день больно уж весело летала белая чайка над озерком, над бельником. Вместе с Аннушкой радовалась. Еще бы не радоваться, сам посуди…
Гащивать-то к своим фабричным заходили Харлампий с Ермилой. Поди догляди их, если на них рубашки не простые. Перед своими-то, конечно, не таились.
Вскоре пошла Аннушка вроде по грибы, да и не воротилась, и ребятки-то Ермиловы скрылись в ту ночь.
Потихоньку шептались ткачи: знаем, мол, куда они скрылись. Но хозяину, конечно, не сказывали. Слушок такой прошел о пропащих: опять тут, надо думать, Полянка заступилась, указала им дорогу на одну дальнюю фабрику. Тайное такое место нашла для них. Там и остались жить беглые, а за ними и другие стали туда уходить.
…Вот и весь моток-мотушечко с локоток, а другой — серебряный — лежит в плетеной веретенице у соседки-рукодельницы.
Другой про старину-то и не больно охоч слушать. Мол, было это, да сплыло, а теперь все на другой манер повернуто, другой краской крашено. Так-то оно так. Только и про старину забывать не след.
В старину леса были у нас — на сотни верст. Как из фабрики вышел, так и лес начинался. В три обхвата сосны росли.
Зимой, бывало, припугнет лисица зайца, так он с перепугу, случалось, через худое окно прямо в ткацкую залепетывал. Лоси к самым мытилкам 4 на питье выходили. Да отстали: с фабричной краской вода не то, что из серебряного ручья в березовом бору, — в нос отравой бьет. Да и охотники — большая для них помеха.
Птицы всякой, гриба, ягоды — ну, необеримо было! Возами вози. А уж черники-то! В лес войдешь — ровно черный дождь ударил, ступить негде.
Сказывают, прежде береза к березе вплотную росла на целые версты. Что кругла, что стройна, что бела! При луне серебром кожура горит, переливается. Особливо зимой, в заморозок. В лес войдешь, как в терем. Вот, бывало, повезут мужики свои тряпки в Парское 5 или с базара ворочаются — едут ночью березняком, лошадей по их воле пустят, а сами всё любуются. Уж больно в березовом лесу отрадно! Тихо. Лунно. Куда ни глянь — серебро рассыпано. На воротнике серебро, на гриве у лошадей, ветви на березах тоже серебряные, а вдобавок, случится, на маковках у деревьев — полушалки белые.
И еще, сказывают, испокон веку тем березняком на рысях ездить опасались. Если кто поозябнет, ехавши-то, или навеселе шуганет да пошибче поедет, так и жди: или лошадь ногу о корень переломит — обезножеет, или хозяин с обмороженным носом домой пожалует, а то не-весть как и в болото угодит. А болото эвон где! Там ныне торф копают.
Будто высокая старая береза, такая заприметистая, обочь дороги росла. На первый взгляд береза как береза. Но приглядишься — не то. Не сразу, а вникнуть можно: на белом стволе ее вровень с человеком сидят два черных гриба рядышком, словно брови нахмуренные, а под ними вроде как глаза и опухоль рябая — ни дать ни взять, рожа какого-то чудища. Глаза закрыты, будто спит оно. Сказывали, в какую-то ночь глаза те открывались и береза говорить начинала. Правда, не часто. Вот тут-то и держись за вожжи. Лошади в запряжке бесились. И весь лес стонал, трещал, ровно сама мать сыра-земля наизнанку свое нутро вывертывала.
Как будто береза эта всё на выручку звала. Да кто выручать станет? Попробуй найди выручаловку в лесу ночью! Постонет, постонет за полночь — затихнет к утру.
Рушить то дерево пытались, да ничего не выходило: ни топор, ни пила не брали. Топором тяпнут, ровно о камень, — искра густо сыплется, лезвие крошится. Так и отступились. Думают: пропади ты пропадом! Вот какое дерево стояло!
Не сама та береза заскрипела, не сама оборотнем выросла, а человека из ближнего села — кажется, из Дунилова — в ту березу обратили.
Верстах в двух от парского тракта, в стороне, на горе, то село торговое раскинулось. Землю там мало пахали, промышляли кто чем. Хозяйничали больше там давальцы 6— эти в ивановских конторах подряды брали, ткачей маяли.
В том селе и жили два мужика. Одного Герасимом звали, другого Петром. Избы их одним гнездом стояли — крыльцо в крыльцо. У обоих — по два ткацких стана в избе.
Герасим был роста небольшого, борода реденькая, на ногу припадал, но сноровист, работящ.
А Петр — мужичище, что твой медведь, в дверь едва входил; борода кольцами, уши круглые.
У Петра в чулане стоял сундук, под тряпьем упрятан. В сундуке, соседи сказывали, было изрядно отложено. Но вот откуда он излишков накопил? Разное про него говорили: мол, перекуп держит. Односельцы, кто победнее, напрядут, наткут, а он тут как тут, готовенькое у них скупит и вместе со своим товаром — на базар. С кого копейку, с кого грош зажилит — вот и накопил так-то. Но не признавался, сердился, когда про сундук напоминали ему. Да разве такого по-доброму заставишь правду принять? И к делу-то был не особо прилежен, за тонкостью в работе не гнался. Только бы побольше ухватить да подороже сбыть. И во всей семье у них — ни ладу, ни складу.