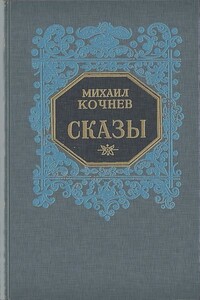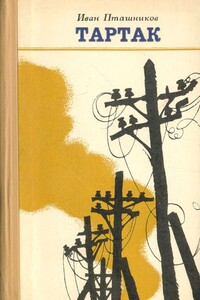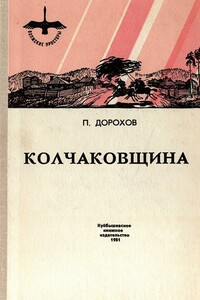Перед белыми столбами, под старыми липами у господского крыльца, оставил староста покупных людей, сам без шапки побежал к самодурке: глянь, мол, поди, что за людей пригнали, еще полюбятся, ли такие.
Уходил староста — велел ткачам одеться в новые рубашки, чтобы барыню порадовать своим видом. Оделись ткачи в новые рубашки, а девушки и женщины — в шелковые платья…
Барсучиха вышла на крыльцо, и с ней староста. Смотрят — перед крыльцом одни погонщики. Суматоха, говор. Погонщики бегают, словно отнимают у кого-то свои кнуты. А кнуты-то сами погонщиков хлещут. И старосту разков пяток задели. Узелки летают по воздуху. А потом пошли сумки и узелки от крыльца к саду.
Барсучиха — к старосте:
— Где же люди-то? Что за кутерьма тут?
А тот щеку трет, пятится к стене и не знает, где народ…
За липовым садом по дорожке в Иваново, слышно, поют песенку:
…Вам — соха и борона,
А нам — чужая сторона!
Барсучиха приняла за насмешку доклад старосты. Кнутом его отпотчевала. Досталось и погонщикам. Взбесилась жадная барыня:
— Сейчас же скакать к Сазону-обманщику, за такой подлог стребовать задаток, да подать на него кляузу прокурору или самому губернатору!
Сазон сидит больно весел. Спрашивает у своего приказчика:
— Ну как, увели бунтовщиков?
— Угнали!
Пошел Сазон с приказчиком в старый корпус, на слом-то который намечали, а там все станки на ходу — работают проданные ткачи на своих местах.
— Кто вас звал сюда?
— Позвало нас сюда наше мастерство. Лучше на свете не жить, чем добытое забыть, — отвечает Харлампий.
Кинулся Сазон на сторожа у ворот:
— Ты зачем без хозяйского спроса пустил этих на фабрику?
— А я и не пускал. Я и не видел никого.
Ясно, помогли ткачам шелковые рубашки.
От Барсучихи прискакали гонцы. Требуют с мануфактурщика:
— Отдай задаток барыне, обманщик!
Но забыла, знать, помещица: что к Сазону в карман попало, то, считай, пропало. Ни с чем уехали гонцы назад.
Затеяла Барсучиха тяжбу. Сама ездила с жалобой к губернскому прокурору.
У Сазона один ответ:
— Купила и получай! Что, я их держу, что ли? Ради бога, избавь от смутьянов.
Время тогда стояло тревожное. Царь Николай Первый — а больше-то его в народе Палкиным звали — вешал, по тюрьмам сажал, в Сибирь угонял неугодных, недовольных. Звон кандальный гремел по всем путям-дорогам.
Вот и взяла тревога губернатора. Как же это так: фабричники выходят из послушанья? Пошла писать губерния, потекли чернильные реки: подай в полицию главных зачинщиков. А поди разберись, кто зачинщик, кто нет. Почитай, у всех рабочих людей мысли-то одинаковы, всех одна плеть бьет, одна кабала душит.
Проданные ткачи хоть и в немилости у Сазона, но дело знают. Работают краше прежнего. Стал думать Сазон, глядя на их старанье: «Не зря ли я этих запродал? Лучше бы других… Ну и хорошо, если не хотят уходить». Два блага у него: и задаток при кармане, и отменные мастера при фабрике. «Сломать старый корпус успеем», — думает.
Только в толк не взять Сазону: куда же все вожаки, самые-то зачинщики пропадают, когда появляются сыскные во дворе?
А они никуда не девались, только переодевались. В оконце-то, по наказу Харлампия, всегда свой паренек зоркий посматривал. Сыскные к воротам — паренек свистнет, тут и понадобятся шелковые рубашки.
Долго полиция понапрасну сбивала подметки. Уж хотели отступиться да спрятать кляузу под сукно. Может, и спрятали бы, если бы, на беду ткачам, не настигла их по лету одна оплошность.
Как-то раз Харлампий и Ермила надели шелковые рубашки и пошли купаться на озерко. У калачного амбара стоят сотский с десятским. Оба подвыпили. Ткачи их видят, а те ткачей не видят. Харлампий как толкнет высоким плечом сотского, тот и пополз на карачках.
— Что это за столб встал посреди дороги? — будто говорит сам воздух Харлампиевым строгим голосом.
Сотскому не внять, кто толкается да еще столбом дерзостно обзывает. Никого нет поблизости.
А тем временем Харлампий и Ермила идут к озерку, разговаривают. Что они говорят — слышно, а самих их не видно. Протер осоловелые глаза сотский: приметил на пыльной дороге следы, будто двое босиком прошли.
Сотский десятского — за рукав да по тому следу к озерку. Харлампий и Ермила скинули рубашки, положили под кусток, сами бултых в воду! Ныряют, плещутся. Откуда ни возьмись, чайка-вестница шелковыми крыльями тревожно замахала над ними. То над кустом взовьется, где рубашки лежат, то крылом у самого плеча чиркнет по воде. Догадался Харлампий — скорее к берегу. А из-за куста навстречу ткачам сотский с десятским:
— А ну, вылезайте на бережок! Вас и надо. Давно мы вас искали!
По пояс голых погнали, под замок за решетку посадили обоих на съедение клопам и тараканам. Доложили губернскому правителю, что зачинщики-бунтовщики под стражей. Тот скорописку-бумажку шлет: судить на миру, отстегать дубцами и, как безнадежных, к исправлению недоступных, забить в замки и сослать на вечное поселенье в сибирскую сторону… Вот как мастерство-то ценилось в ту пору!
По губернаторскому веленью так и сделали. Сазон, двуличный, на суде отрекся от своих мастеров: мол, куда хотите гоните их, оба они самые неисправные из всех.
Повели Харлампия с Ермилой из судной избы