Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина» - [4]
Сегодня, когда наши познания о внутренней жизни традиции Китая становятся более целостными, имеет смысл вновь всмотреться в зеркало восточной культуры. Нам становится доступной не просто история Поднебесной империи как цепь рядоположенных фактов (что и когда произошло), но сама логика её развития, столь непохожего на развитие всего остального мира. Постепенно переосмысливается и сам процесс привития традиционных духовных ценностей. Мы осознаём, что два великих мудреца древности — Конфуций и Лао-цзы создали такие учения и дали такой мощнейший духовный импульс к развитию всей дальневосточной культуры, что последующим поколениям оставалось лишь комментировать их. Лао-цзы была исчерпана область мистического, Конфуцием — морально-этического. В отличие от западной культуры, в которой каждое последующее поколение отрицает предыдущее или, говоря мягче, «улучшает и углубляет», китайская цивилизация научилась накапливать и передавать. В определённый момент, а точнее в VI–IV вв. до н. э., произошёл сильный культурно-этнический перелом, «энергетизировавший» местный социум. Такая «энергетизация» (увы, другого термина пока не подобрать; Л.Н.Гумилёв называл это «пассионарным толчком») была воспринята самими китайцами как духовный импульс, который попытались «переварить» и выразить в сравнительно системном виде ряд мудрецов — преемников этого энергетического толчка. Эти люди создали вокруг себя тесные сообщества учеников, которые принято называть философскими школами, хотя, как будет видно из дальнейшего, речь идёт собственно не о философии как «науке мудрствования», а об особом способе символического переживания действительности. Кто-то из последователей в полной мере воспринял духовный импульс от своих учителей и сам стал передавать дальше то, что стало называться «передачей истины» или «истинной передачей» («чжэньчуань»). Большинство же стало лишь имитировать внешнюю форму: ритуалы, слова, поступки, особые одеяния. Не случайно в «Дао дэ цзине» настойчиво повторяется мысль, что всякое слово лишь профанирует «истинное знание», которое в действительности воспринимается как восприятие духовного энергетического импульса — материи чрезвычайно тонкой и постоянно ускользающей при строгом научном анализе.
В науке сложилась строгая традиция того, как надо анализировать философские тексты. Прежде всего определяется, к какой школе принадлежал автор, какие взгляды проповедовал, кто были его соперники, какой основополагающей линии он придерживался и самое главное — к чему призывал. С трудом допускается мысль, что древний философ мог не придерживаться линии, не противопоставлять себя кому-нибудь (что, конечно, не исключало победу его духовной мысли над другими благодаря большей внутренней мощи и привлекательности) и ни к чему не призывать. Он просто пытался записать на бумаге тот поток сознания, который ощущал в себе как присутствие сакральных, высших сил внутри профанного существа — человека.
Один из таких трактатов — «Дао дэ цзин» стал концентрированным выражением тех удивительных и во многом непонятных импульсов духа, охвативших Китай в середине 1 тыс. до н. э.
Сколь трудно порою бывает осознать древний текст, перед нами не только дистанция времени, но и дистанция мудрости. Поэтому мы можем по-разному подходить к трактовке или, как сейчас принято говорить в отношении мистических писаний, к герменевтике «Дао дэ цзина».
С одной стороны, безусловно, «Дао дэ цзин» наполнен историческими реалиями своего времени — эпохи Борющихся царств (475–221 гг.), когда страна раздиралась конфликтами, когда сиюминутные амбиции правителей вступали в противоречие с идеальными думами о беззаветном служении государству через следование трансцендентным истинам. В этом смысле — перед нами текст конкретно-исторический. Но, с другой стороны, это текст мистический, текст, принадлежащий к эзотерической традиции, стоящей вне времени. Он полон метафизики «сокровенного» и извечного, существовавшего до человека и открывающегося в вечность. Мы можем воспринять лишь нечто «значимое для нас» — те извечные истины, которые, безусловно, присутствуют в трактате и будут столь же действительны для сотен будущих поколений.
В этой двойственности текста и заключена главная сложность его восприятия, его приближения к нашему сознанию и к нашей душе. И всё же попробуем осознать «Дао дэ цзин» не как нечто отстранённое, исторически-далёкое и «азиатское», но как собственное, открывающее самое сокровенное, интимное начало в нас самих.
Прежде всего обратим внимание на одну важную особенность духовной жизни Поднебесной империи. В Китае никогда не было чисто философских, умозрительных школ. Не существовало ни малейшего разрыва между духовным и практическим, земным и небесным, или, как говорили сами китайцы, «далёким и близким». Сложилась полная преемственность между философией и политикой, которые находились в соотношении как «сущность» и «функция», «осмысление — применение». Да и сама политика трактовалась шире, чем мы привыкли воспринимать её в западной традиции. Это был прежде всего способ универсальной коммуникации людей между собой во всех областях, установления в Поднебесной некой идеальной матрицы или символической формы «настоящего государства», основанного на древнейшей идее «Датун» — «всеобщего единства» или способности нахождения всего в одном и наоборот. Так рождается гармония государства — взаимопонимание и взаимопроникновение всех вещей и явлений. Но как же можно установить такую идеальную коммуникацию между людьми, предварительно не «договорившись» с высшими силами или хотя бы не осознав их творческого присутствия в мире? Это уже область философии — «науки о мудром осмыслении». Совершенномудрый, воспринявший этот импульс, способен привести в гармонию всю Поднебесную, то есть весь мир, «лишь одним своим дыханием». Его миссия не только воспринимать высшие посылы, но и передавать их будь то через учеников и трактаты, либо в виде советов правителю.
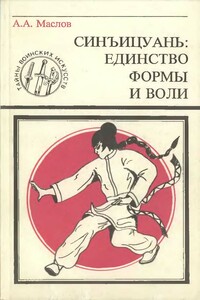
«Воля человека следует прежде его формы», — говорили мастера синъицюань, одного из наиболее сложных стилей ушу.Книга известного знатока китайской истории и культуры, автора многих публикаций о восточных традицию, одного из лучших мастеров ушу за пределами Китая, адресована тем, кто решил постичь ушу как особый творческий путь и духовный опыт.
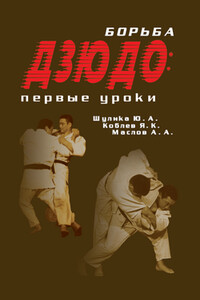
Приобретение способности защитить себя и своих близких всегда было и будет первейшим стремлением человека (особенно мужчины). Поэтому боевые искусства являются наиболее биологически и социально значимыми видами физической деятельности.Занимаясь ими, можно быстро и достаточно легко получить квалификационную степень в виде пояса какого-либо цвета или даже мастерский дан, но настоящую боевую подготовку можно получить только завершив ее каким-либо единоборством.Далеко не все люди могут сразу начать заниматься единоборствами по физическим кондициям или психологическим особенностям.
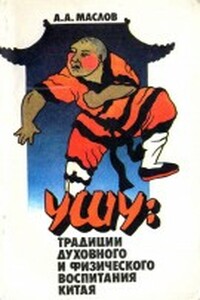
В книге в популярной форме рассказывается о китайских боевых искусствах ушу как о пути физического и духовно-нравственного совершенства, об истории, традиции, философии и технике ушу, а также приводится один из древних комплексов, развивающих физические и психические возможности человека. Книга рассчитана как на специалистов в области истории, психологии, медицины, так и на тех, кто интересуется традициями Китая.
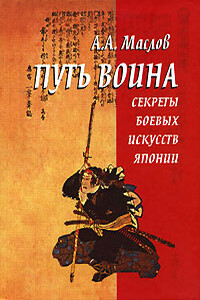
Из переплетения местной боевой традиции и китайского ушу, самурайского кодекса чести «Бусидо» и тайных народных методов боя родился уникальный мир боевых искусств Японии. В нем роза была неотделима от меча, а поэзия – от искусства боя. В книге собраны редчайшие материалы о воинской практике самураев, методах тренировки в дзюдо и айкидо, каратэ и сериндзи кемпо, искусстве боя на мечах кэндо, системах боя подручными средствами кобудо и таинствах тренировок горных монахов Ямабуси.Почему жители Окинавы не признавали японских боевых искусств и изобрели свое; о чем думал перед смертью «отец каратэ» Гитин Фунакоси; как китайцы «изобрели» каратэ; что такое «удар мыслью»; сколько медитировал по утрам Масутацу Ояма; как тренировался основатель айкидо Морихэй Уэсиба; почему истинный вид традиционного дзюдо не известен даже чемпионам мираВсе это и многое другое в новом бестселлере Алексея Маслова.
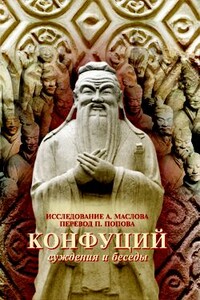
Они оставили нам Мудрость, передали нам Знания. Они ничего не скрыли от нас Суждения и беседы Конфуция (Луньюй) - краеугольный камень философии Древнего Китая. Легендарный памятник состоит из 20 глав, где в форме бесед или отдельных высказываний представлены основные положения духовно-этического учения, созданного Конфуцием.
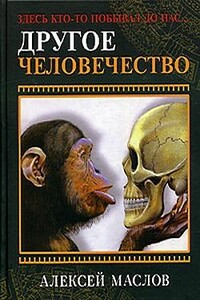
Современное человечество не является ни «венцом творения», ни результатом долгой эволюции. Оно вообще возникло, кажется, ниоткуда, внезапно и одномоментно. А до нас на этой земле жило много видов человечеств. И ни один их тех, кого мы считаем нашим предком, не был даже нашим «родственником».И эти – другие человечества – оказались значительно более успешными, чем мы сами, и прожили они в десятки раз больше, чем сегодня существуем мы. Кажется, разные виды человечества возникают и исчезают на земле циклическим образом – человечество «обнуляется», приходит к своему началу, и все начинается вновь.И миллионы лет назад на планете существовали совсем другие цивилизации, абсолютно непохожие на нашу, населенные другими видами людей.Они не были «тупиковыми» ветвями.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».